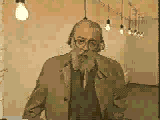

Ги Дебор как-то раз выпустил книгу в переплете из наждачной бумаги. Идея была в том, чтобы книгу нельзя было поставить на полку, не изрезав соседние. Идея хорошая -- но Хаким Бей переплюнул Дебора. Он выпустил книгу с наждачной бумагой внутри.
Хаким Бей, безумный суфий -- Марко Поло маргинального сообщества. Пока мы дома тихо-мирно подвергались воздействию энтропии, он, американец, все 70е годы провел на Востоке. В Иране он стал аборигеном. Когда этого оказалось недостаточно, он превратился в аборигена опять -- на этот раз в стране собственного воображения, в Терра Инкогнита, морские чудища которой не смогли его растерзать. Бей мечтает увидеть свою родину на карте -- на тропическом острове, на астероиде, неважно, где.
Бей известен мешаниной пристрастий -- анархия, теоретическая физика, фанзины, наркотики, исламские ереси, пригожие мальчики, -- причем все это в его руках как-то сливается воедино. Бей синкретичен, и он вернул в синкретическую религию грех. Он автор и бессчисленных эссе, и романа Кроустоун -- лучшего, и единственного, в мире порнографического фэнтези про любовь между мальчиками и мужчинами; а кроме того, экстатических визионерских анархо-арабесок из книги Хаос: дацзыбао онтологического анархизма. Кроустоун и как фэнтези (барочно-декадентское, в духе, например, Джека Вэнса), и как хард-кор порнография, поражает тем, как одновременно доведены до совершенства и объединены оба жанра -- его пародия, как пародии Филдинга, вполне вытесняет собой пародируемый объект.
Хаким Бей не просто житель Богемы-Богемии -- он таборит. Его Хаос -- это камень, брошенный блином на поверхность моря спокойствия. Хаким Бей извращенец и этого не стыдится; он предпочитает быть сдвинутым, а не членом движения. Он эрудит, и абсолютно искренне развлекается самим процессом мышления. Хаос кричит о радости, требует чудес без конца и начала, Коммуну Королей, где "твоей неотъемлемой свободе для полноты только и недостает, что любви остальных монархов".
"Онтологический анархизм" Бея -- возможно, наименее удачная из его фраз. Он хочет поймать (и утащить в свое логово) романтические и зловещие коннотации анархизма -- но рискует получить в нагрузку побитый молью багаж секты-неудачницы, которая сама бросила свое единственное оружие, сказав "анархия не есть хаос". (Если так, то тем хуже для анархии.) Бей знает, что он не для "идеологических либертарианцев" -- а они, конечно, не для него.
Хаос -- это не перепевы ни Strum-und-Drang, ни сюрреализма, ни чего-нибудь еще в этом роде, хотя местами и приближается к ориентальной фанатастике, вроде бульварных романов о Фу-Манчу -- если бы их написал Жерар Нерваль. Даосы, дервиши, ассассины во хмелю, змеи кундалини, китайцы, употребляющие порох только для праздников и чтобы пугать духов -- вот жители того несбыточного Востока, где Бей, как Пресвитер Иоанн, правит чудесным царством.
Не то, чтобы к Западу он питал большее почтение -- ни к своим предшественникам из Мэриленда, По и Менкену, ни к луддитам, ни к рантерам, ни к террористам с площади Хэймаркет. Современный город, очевидно, есть лишь сцена для предлагаемых им преступлений и издевательских розыгрышей. Но Бей суров к западным чинушам, доктринерам от провокации: "Сюрреалисты опозорились, променяв безумную любовь, amour fou, на машину иллюзий абстракционизма -- в своем бессознательном они искали лишь власть над другими, и в этом уподобились де Саду (который "свободы" хотел только для взрослых белых мужчин, чтобы бы им удобнее было расчленять женщин и детей)".
Упомянув про Amour Fou, надо сказать, что Бей прославляет порок, не ставший еще, в отличие от гомосексуализма, выгодным вложением для успешной интеллектуальной карьеры. Ему нравятся мальчики. Его глава о "Диких Детях" похожа на раннего Барроуза (или же на позднего Барроуза, который похож на раннего Барроуза) -- не только тем, что он питает страсть к Диким Мальчишкам, но и тем, что они для него "природные онтологические анархисты, ангелы хаоса", невинные создания, чей Эрос дает им право учить взрослых, а не учиться у них. Бей пишет (принимая, в большой степени, желаемое за действительное): "У нас общие враги, и общий способ торжествующе натянуть им нос; навязчивая и безумная игра везде и во всем, питаемая призрачной гениальностью волков и воспитанных ими детей". Ага, расскажи это суду...
Анархизм, дай ему волю, превратил бы госпиталь для душевнобольных в пансион для душевнобольных -- анархия сделала бы из него фаланстер. Анархизм легализует наркотики; анархия их употребляет. Анархия это хаос; а Хаос -- это анархия.
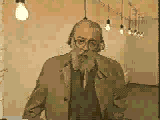
Кали-Юге осталось играть нами где-то 200,000 лет -- счастье для аватар и защитников ХАОСА, горе для браминов, яхвистов, божков-бюрократов и их прихлебателей.
Я понял, что Дарджилинг хранит для меня какую-то тайну, едва услышав его название -- dorje linge -- Город Молнии. Прибыл я в 1969 году, прямо перед муссонами. Старая британская станция на холме, летняя резиденция Бенгальского Правительства -- улицы, как деревянные винтовые лестницы, Променад с Видом на Сикким и гору Катченунга -- тибетские храмы и беженцы -- красивые люди из желтого фарфора, называемые Лепча (настоящие местные аборигены) -- индусы, мусульмане, буддисты, непальские и бутанские, опустившиеся британцы, которые потеряли дорогу домой в 1947м году и до сих пор обслуживают свои пыльные банки и чайные магазины.
Встретил Ганеш-Баба, толстого саддху с белой бородой и чересчур безупречным оксфордским акцентом -- никогда не видел, чтобы кто-то курил столько анаши, трубку за трубкой -- а после, мы бродили по улицам, он же играл в мяч с орущими детьми или ввязывался в базарные драки, гнался с зонтиком за перепуганными клерками, а потом заливался громким смехом.
Он познакомил меня с Шри Каманарансан Бисвасом, крошечным, средних лет чиновником бенгальского правительства в поношенном пиджаке, который вызвался научить меня Тантре. Жил господин Бисвас в шатком бунгало на вершине туманного, крутого, поросшего сосной холма, и я ходил к нему раз в день, принося литры дешевого конъяка для пуджа и просто для выпивки -- а он просил меня за разговором курить, потому что анаша тоже посвящена Кали.
В бурной молодости, господин Бисвас был членом Бенгальской Террористической Партии, которую почитатели Кали и мусульманские мистики-еретики делили с крайне-левыми и анархистами. Ганеш-Баба, по-видимому, одобрял это тайное прошлое, как знак скрытой в г-не Бисвасе тантрической силы -- несмотря на его потертый, непритязательный внешний вид.
Каждый день мы обсуждали прочитанные мной страницы сэра Джона Вудраффа ("Артур Авалон") -- я приходил после полудня, сквозь холодный летний туман, за дымкой и кедрами тенью возникали тибетские ловушки для духов, хлопавшие под мокрым бризом. Мы отрабатывали Тара-мантру, Тара-Мудру (она же -- Йони-Мудра), изучали диаграмму Тара-Янтры для магических применений. Один раз мы посетили храм индуистского Марса (как у нас, одновременно планеты и божества), и он купил мне кольцо на палец, сделанное из железного подковного гвоздя. Конъяк, анаша.
Тара: одна из форм Кали. Атрибуты похожи: крошечная, голая, вооруженная, четырехрукая, танцующая на трупе Шивы, в ожерелье из черепов или отрезанных голов, кровь течет с языка, кожа темно-синяя с серым -- в точности как муссонные облака. Дождь каждый день -- дороги перекрыты грязевыми лавинами. Кончается срок моего разрешения на пребывание в пограничной зоне. Мы с г-ном Бисвасом спускаемся с мокрых, скользких Гималаев на джипе, потом на поезде, и попадаем в город его предков, Силигури, на плоской бенгальской равнине, где Ганг разливается свежей, намокшей дельтой.
Мы навещаем в больнице его жену. В прошлом году, наводнение в Силигури убило десять тысяч человек. Началась холера, город в стоит в руинах, разрушенный и заляпанный водорослями, палаты в больнице до сих перепачканы слизью, кровью, рвотой, зловонными выделениями смерти. Она молча сидит на кровати и, не мигая, смотрит на ужасные лики судьбы. Богиня с темной стороны. Он дарит мне цветную литографию Тары, которая чудесным образом всплыла на воде и была спасена.
В тот вечер мы посещаем церемонию в местном храме Кали, скромном, маленьком, полуразрушенном придорожном деревенском храме -- освещение только факельное -- ритмическое пение и барабаны со странными, почти африканскими синкопами, совершенно неклассическое, первобытное, и в то же время, бесконечно сложное. Мы пьем, мы курим.
Один, на кладбище, возле полусожженного трупа, я прохожу инициацию в Тара-Тантру. На следующий день, с лихорадкой и плывущим сознанием, я прощаюсь и отправляюсь в Ассам, в великий храм йони Шакти в Гаухати, как раз к ежегодному празднеству. Ассам -- запретная территория, и разрешения у меня нет. В полночь я тайком схожу с поезда в Гаухати, пробираюсь назад по рельсам сквозь дождь, грязь до колен и полную темноту, попадаю наконец в город и нахожу гостиницу, полную клопов. К этому времени я болен как пес. Не сплю.
Утром, автобус до храма, расположенного на близлежащей горе. Огромные башни, нависающие божества, дворики, приделы -- сотни тысяч паломников -- странные саддху, спустившиеся из ледяных пещер, сидят на корточках поверх тигровых шкур и монотонно поют. Овец и голубок режут тысячами, настоящая гекатомба -- (нигде ни одного белого сахиба) -- канавы на дюйм заполнены кровью -- кривые мечи Кали бьют, бьют, бьют, мертвые головы скатываются на скользкую мостовую.
Когда Шива разрезал Шакти на 53 куска и рассеял их по всему бассейну Ганга, пизда ее вывалилась из корзины. Какие-то дружелюбные священники, говорящие по-английски, помогают мне найти пещеру, где йони выставлена на всеобщее обозрение. К этому времени я понимаю, что серьезно болен, но полон решимости завершить ритуал. Стая паломников (все по крайней мере на голову ниже меня) буквально обволакивает меня, как приливная волна на пляже, и бросает меня вниз головой по душной, троглодитской винтовой лестнице в клаустрофобную утробу пещеры где, галлюцинируя и борясь с тошнотой, я плыву к бесформенному конусу метеорита, заляпанного вековыми наростами охры и топленого масла. Стая расступается, позволяя мне набросить на йони мой жасминовый венок.
Неделей позже, в Катманду, я ложусь (на месяц) в немецкий миссионерский госпиталь с приступом гепатита. Невелика цена за все это знание -- печень как у отставного полковника у Киплинга! -- но я знаю ее, я знаю Кали. Да, несомненно, архетип всего этого ужаса -- но для тех, кто знает, она превращается в щедрую мать. Позже, в лесной пещере над Ришикишем я несколько дней размышлял о Таре (применяя мантру, янтру, мудру, благовония и цветы) и вновь обрел спокойствие Дарджилинга, его благоприятствующие видения.
Век Ее должен быть полон ужаса, ибо большинство из нас не могут ни понять ее, ни прорваться сквозь ожерелье из черепов к жасминовому венку, осознав, в каком именно смысле это одно и то же. Пройти сквозь ХАОС, проехать на нем, как на тигре, принять его (даже и сексуально), напитаться его шакти, его жизненной силой -- вот Вера для Кали-Юги. Творческий нигилизм. Тем, кто следует ей, она обещает просветление и даже богатство -- причастность к ее мирской силе.
Секс и насилие суть метафоры в стихотворении, которое действует прямо на сознание через во-ображение -- или же, в надлежащих условиях, их можно применять и наслаждаться ими открыто, наполняясь ощущением святости всего вообще -- от экстаза и дивных вин до смрада и трупов.
Те, кто не обращают на нее внимания или полагают ее чем-то от них отдельным, рискуют быть уничтоженными. Те, кто почитают ее как ишта-девата, божественное я, зная ее алхимическое присутствие, видят ее Железный Век золотым.
[ Хаким Бей, ок. 1990 ]

См. также перевод Петра Поморова