[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]
Below are 25 friends' journal entries, after skipping by the 225 most recent ones.
| Thursday, August 12th, 2004 | ||
tanja_shas
|
10:19p | Об обещаниях Пустые обещания ни к черту ни годятся Да я бы Да ты бы мудачество в итоге ноль без палочки____ О щекотках Боюсь-боюсь-боюсь до смерти только что меня защекотали_____ О друзьях спасибо О. за удивительное чувство детского одиночества и теплоты. внутри добро и разноцветными фломастерами бы... Люблю-люблю_____ О профессии можно быть журналистом по настоящему. А можно понарошку. И там и там как бы подразумевается работа___ О себе Хотела написать А потом у кого-то в ЖЖ нашла стихотворение: так будем жить мы хорошие оба будем любить мы друг друга до гроба хорошие оба до хорошего гроба только б прошла поскорее суббота только б скорее б пойти на работу чтоб там стать хорошим там стать хорошим п. Мамонов__ О жизни Жизнь не поверите, как прекрасна, когда рядом О., дорогой друг В., Н и все лопаем на полу сливочное мороженное серебряными ложками из миски для фруктов___ А теперь серьезно. Три вопроса 1. стоит ли покупать цифру? Или обойтись проверенным зенитом? 2. стоит ли верить обещаниям? 3. получится ли у меня когда-нибудь стать кем-нибудь другим? ________________________________________ |
kniga_dobra
|
10:19p | В смысле? А, ну да: сердце спокойное и дыхание - ровное. Потому что творится-то тут страшное. Чирап, ага. |
boleslav
|
10:04p | Укусил себя за голову. Вокруг смехоточит "государственный инсайд", воркуют жидкие глаза домо-дедов и восковые фигуры, извивающиеся в танце жирота. Флуоксетин, прозак и все его воплощения на других языках плещутся в одном огромном тазе под названием проклеан-океан. Стиль вдребезги переступил разум, иллюзия побеждённой гравитации оказалась всего лишь обочиной мнимой социальной левитации и реальной деградацией. Самсон сжимал в одной руке рецепт, точнее раскрашенную ксерокопию рецепта. В другой упаковку с капсулами прозака. В его плотном, выцветшем рюкзаке лежало уже сорок девять упаковок лекарства. Самсон сел на автобус путь его лежал из Солнцево в Печатники, где осталась ещё одна аптека. Одна качественная подделка рецепта и одна аптека: равно ещё одна упаковка прозака. Последняя. Было около 10 вечера, когда Самсон выехал на электричке в сторону села Абрамцево. Противошумовые экраны трассы для "спутников" сменились грязно-коричневыми лесами и стройными пентаграммами дачных посёлков. Потом, с трудом очнувшись мерканием от дневного сна, включился свет, и за окном ничего не стало видно. Самсон перекинул через забор, окружающий усадьбу, свой разбухший рюкзак, затем перелез сам. Вдоль по берегу, мимо урчащего лягушками болота на маленькую полянку на берегу Вори. Вытряхнул из рюкзака около 50 упаковок прозака. Не поленился из каждой упаковки вытащил бумажечку с описанием лекарства для растопки. Вспыхнула зажигалка. Загорелась бумага и упаковка. Наконец потянуло какой-то странной неуловимостью, фиолетовой странностью. То ли в мозгу, то ли в воздухе захлопали маленькие взрывики. Странный золотистый дымок из загадочных фигурок полез на небо. Домо-деды, валькирии с миномётами, Ланселоты и какие-то шестиногие создания. Самсон упокоился затылком на рюкзак и любовался открывающейся сказочностью. Горел прозак, оглашая сумеречное небо ревнивыми всполохами. |
| kniga_dobra | 9:54p | Да прохладно, прохладно; прохладный уже воздух. Чего-то всё пожухло. И на асфальте мертвая пчела. --- Любимое всегда было время. Ну ничего, ничего. |
rromanov
|
9:57p | А кем ты стал? (2) А давайте вы присоединитесь, и мы в такой форме напишем историю новой России-Эрефии. Ы? |
nnikif
|
9:42p | сближения Пожалуй, Роберт Антон Вилсон, среди прочего, похож еще и на св. Антония Грюневальда. По-моему, это не случайно. |
annutka
|
7:45p | сильно обидели оказывается двухпроцессорные G5 дескопы не поддерживают Mac OS 9 А я хотела поиграть StarCraft на 25 дюймовом экране Граждане, будьте осторожны Проверяйте совместимость перед покупкой |
rromanov
|
9:49p | Из истории борьбы за вежливость. Развесистые матюги, вылетающие из уст гражданина Киркорова и воспоследовавшие за ними судебные процессы напомнили мне одну историю. В середине горячих девяностых жил в городе Петрограде молодой человек по имени, скажем, Боря. Ничего особенно примечательного в нём не было: спортшкола в юности, армия, какие-то там горячие точки, по прибытии на гражданку - довольно отчётливый бандитизм - типовая, если призадуматься, для своего поколения биография. Как и у большинства работников ножа и топора, числилось за Борей и некоторое легальное место в жизни, не сильно отличающееся от теневого - он крыше, то есть, простите, обеспечивал безопасность питерского отделения одной из партий. Руководил, так сказать, службой этой самой безопасности. Поскольку никто особенно на партию накатывать не думал, легальная халтура от основной деятельности практически не отвлекала, наоборот - даже придавала обеим сторонам солидности. Тем паче, что идеологии курируемой партии Боря даже где-токак-то на свой своеобразный манер сочувствовал. Но однажды центральное партийное руководство совершило большую ошибку: недовольное работой петербургского отделения, оно решило потрясти местный менеджмент и поменять регионального лидера, подбив на это дело молодого и кипящего активностью провинциального активиста. Тот, радуясь жизни, выехал с несколькими доверенными людьми в Санкт-Петербург принимать дела, заранее подбивая смету и чирикая в блокнотике проекты грядущих кадровых перестановок. В штабе партии в процессе передачи дел, бывший руководитель коварно поинтересовался о планах нового начальства относительно службы безопасности. Провинциальный активист бодро сообщил, что руководство СБ возьмётна себя его человек. Прежний руководитель тактично заметил, что нынешний руководитель СБ (Боря) скорее всего будет против, и услышал в ответ фразу, чуть не стоившую провинциальному активисту если не жизни, то здоровья: "А какое мне дело, что он думает? Да он никто!". О чём смещённый руководитель чуть позже незамедлил сообщить Боре. "Это кто никто?, - переспросил Боря, у которого тихо начали зашкаливать все индикаторы, - Это я никто? Он, блядь, сам никто!" С этими словами он позвонил в штаб, дождался ответа и, не представившись, мрачным голосом произнёс: "Всё, бля! Я еду к вам!". Поместил своё двухметровое тело в машину и выехал в направлении штаба. Одновременно тоолько что вступивший в должность провинциальный активист стал свидетелем удивительной сцены: штаьные работники моментально заперли дверь и забаррикадировали её все имевшейся в наличии мебелью". Едва на импровизированную барикаду была установлена последняя этажерка, подлетел Боря и начал ломиться в штаб с энергией бегемота, почуявшего самку в течке. Ребятки внутри, ощущая себя, натурально, бандерлогами, замерли в тревожном ожидании. Ствол у Бори был, но штабисты прекрасно понимали, что на них хватит и одного Бори, без ствола, а провинциальный активист почти что на собственной шкуре ощутил кое-какие последствия скороспелых кадровых решений. Ощутить все последствия в полной мере помешала случайность - дверь крепкая оказалась, да и баррикада из мебели помогла. Боря поколотился часик, понял, что одному тут не справиться, сквозь дверь сказал провинциальному активисту: "Чтобы через сутки тебя не было в городе". И уехал. Провинциальный активист исчез из города уже через пять часов. А центральному руководству пришлось возвращать старого руководителя обратно. А с ним и Борю. Такие дела. |
reincarnat
|
9:25p | А у меня, граждане, претензия к русским националистам Несколько лет тому назад ко мне в гости приезжал троюродный брат, из Северной Осетии. Он сейчас в ОМОНе служит, там другой работы нет. Ну вот, едем мы с ним по Арбату (проспект Калинина), стоят ночные бабочки, а он и говорит " слушай, брат, почему девочки одни вечером гуляют ? Куда братья смотрят? Куда отец и дед смотрят ? Что за ..." Он, конечно, варвар, но он правильный варвар, имперский варвар, на них, собственно и вся надежда. Он, простодушно, не желая принимать и понимать все наши цивилизационные заморочки, поставил нас, русских, на место. Порядка нет, граждане националисты, простого элементарного порядка, и в этом - мы все виноваты. Вот пока порядка не наведем, пока в столице бардак будет - никакого порядка на окраинах тоже не будет. Вот такие простые соображения. Наведем порядок, вот тогда у нас в России не будет межнациолнальных проблем. |
asterius
|
9:25p | Биоманьеризм :: В пору рабочую  Current Mood: бээ Current Music: New Artist - Untitled |
romochka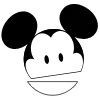
|
9:21p |  |
boleslav
|
9:15p | Друзья, у меня тут возникла одна интересная проблема. Через полторы недели мне получать новый паспорт этого злого оккупационного государства. Увы, отказаться от получения этой гадкой бумажки я не имею права. Даже не знаю, когда наступит тот счастливый час, когда отменят паспорта, прописки, штрихкоды и прочую ненужность. Однако получать этот мерзкий документ с чернобыльским цыплёнком на титуле всё же придётся. Но и здесь на пути тоталитарно-совковое государство строит свои немыслимые козни. У нас в ОВД положено расписываться в паспорте пером. Макаешь хитрый девайс в чернильницу и расписываешься. Или неминуемо ставишь кляксу. Не знаю как вы, дорогие друзья, но я в руках перо держал только один раз в жизни когда получал предыдущий паспорт. Встаёт вопрос, по какому такому идиотскому постановлению положено расписываться в паспорте пером? Почему нельзя расписываться обычной шариковой ручкой, ведь в ней плещутся те же самые чернила? Всё это гнусный пережиток, с которым просто не хочется мириться. |
alexmoskalyuk
|
10:06a | Ал-Каида изнутри Журналист Wall Street Journal за $1100 купил два компьютера - десктоп и лэптоп. Мало того, что это была довольно неплохая цена за две машины, так купил он их в Афганистане и принадлежали они Аль-Каеде. Распечатка некоторых электронных сообщений, включая почту от самого бин Ладена. По-видимому, террористические организации на сегодняшний день испытывают серьезные проблемы с наймом хороших и добросовестных сотрудников:
|
r_l
|
7:55p | И скажу, как называются созвездья Прощался с Учителем. Учитель на дачу поехал. - Приезжай, - говорит, - ко мне на дачу. Живой Журнал почитаем... |
regenta
|
6:38p | Любить по-испански "Ибо врозь, а не подле Мало веки смежать Вплоть до смерти. И после Нам не вместе лежать". Бродский Этот пост, своего рода дополнение к одному из предыдущих, под названием Любить по-русски, я посвящаю всё той же теме невозможной любви. Правда, на сей раз это взгляд с другой стороны во-первых, со стороны мужчины и, во-вторых, с другой стороны Европы, то есть из Испании. И адекватным ответом нашей "Тонкой рябине" будет здесь сонет уже неоднократно упоминавшегося в этом журнале Франсиско де Кеведо, поэта номер один в моей классификации. Правда, он был не только поэтом, но и вообще литератором-универсалом, работавшим во всех жанрах и, самое смешное, занимавшимся литературой по ходу дела, потому что его подлинным делом, делом кабальеро и кавалера военно-монашеского ордена святого Иакова (Сантьяго), была защита Испании, которую мы потеряли - империи, которая, хотя и сохраняя свой блеск, уже трещала тогда по всем швам: он был военным дипломатом, который практически в полном одиночестве и с безумством храбрых боролся с сепаратистами и жидовствующими, защищая завещанное ему Золотым веком дело Контрреформы, за что, понятное дело, ему и пришлось в итоге расплатиться собственной жизнью и погибнуть, я так считаю, святым, достойным почитания в ранге страстотерпцев, от жидов умученных. Правда, никто так до сих пор и не догадался его канонизировать. Ну да ладно: я, персонально, это упущение исправила и приватным образом почитаю святого Франсиско, стараясь по мере своих слабых сил на него равняться. И никто мне этого не запретит. А вот и мой перевод сонета, о котором идёт речь. Любовь, преодолев чувственное влечение, становится достоянием чистого ума Мне Флора обожать себя велела, А не желать, и, покорясь в смущеньи, Я совершаю чистое служенье Той красоте, которой нет предела. Чем страсть слепая обладать хотела, Я разумом люблю, без вожделенья: Люблю тот дух, что неподвластен тленью В темнице совершеннейшего тела. Любовь высокой истины познанье. (Небесное предвечно и незримо.) Корыстно, грубо страстное желанье: Плоть это прах, и жизнь проходит мимо. Мой ум бессмертный Божье достоянье: Любовник вечный вечной я любимой. Так вот, сравнивая соответствующие поэтические образы, из этого сонета и из Тонкой рябины, нельзя не заметить противоположность самих по себе ситуаций: в "Рябине" Она отчаянно устремлялась к Нему, о чувствах которого нам не было ничего не известно доподлинно: то ли он, пребывая в гордом одиночестве, оттуда, с той стороны реки, её просто не замечал, то ли рядом с ним росла какая другая рябина или берёзка не суть важно. Главное что это именно она к нему устремлялась, заведомо зная, что её желания неисполнимы. А вот здесь, в сонете Кеведо, мы сталкиваемся с ситуацией обратной: здесь, наоборот, Он устремляется к Ней, носящей вполне условное для лирического стихотворения имя Флора; здесь уже именно Он, не хуже нашей рябины, трепещет, так сказать, всеми ветвями и листами, умоляя о милости и в ответ получает верховное нет: хрупкая (надо полагать) дама, не хуже того самого непреклонного дуба, проявляет умопомрачительную стойкость, отвечая отказом. И опять-таки мы не знаем подлинной причины этого отказа. И опять-таки для нас существенно только то, что этот отказ имеет место и что основанием для него является своего рода религиозное табу, непреодолимое, фатальное, раз и навсегда установленное: просьбы в этом случае не рассматриваются и апелляции не принимаются. Видимые причины, по которым был получен отказ, могли быть самыми разными: может быть, Флора просто замужем или, что по тем временам было в порядке вещей, пребывает в состоянии монахини-в-миру, которая, не хуже нашего кабальеро, тоже принадлежит к ордену и потому соблюдает соответствующие обеты, что, однако, не мешает ей исполнять, например, свои придворные обязанности (ну да, в реальности лирический герой и Флора только при дворе-то и могли встретиться, больше негде). Да, и вот тут я сделаю небольшое отступление и опять коснусь вопроса об испанском национальном характере таком, каким он сложился к Золотому веку Испанской монархии, то есть к XVIXVII векам. О многом, конечно, можно судить и по мемуарам, и по живописи, но отчётливей всего он, этот характер, проявился, разумеется, в драматургии и, прежде всего, в драматургии Кальдерона, в так называемых комедиях плаща и шпаги. (Правда, в этих комедиях, не было, разумеется, ничего комедийного в нашем понимании. Это просто жанр так назывался.) Так вот, испанский дворянин того времени был маниакально сосредоточен (а по нынешним понятиям даже и помешан) на идее чести, которая была для него в буквальном смысле слова дороже жизни. Причём честь (и этого, к сожалению, многие не понимают и не чувствуют) была для него понятием не столько социальным, сколько религиозным, никому не подконтрольным и не подвластным. Изменить чести это изменить Богу, подписать смертный приговор самому себе. И, самое удивительное: обязательство сохранять свою честь являлось своего рода внутренним договором, добровольным договором с Богом, исполнение которого никак не регламентировалось и никак (со стороны общества) не осуждалось и не каралось. То есть социально-моральные основания хранить и защищать свою честь были сведены до минимума, а вот основания индивидуально-религиозные были, наоборот, максимально значимы. Строго говоря, только они одни и имели значение, что хорошо объяснил анонимный религиозный поэт примерно того же времена: Я боялся бы Бога, даже если бы не было ада, и любил бы Его, даже если бы не было рая. Одним словом, для испанского дворянина хоть в миру, хоть в духовном звании были значимы только те мотивации, которые имели своим основанием веру, индивидуальный договор с Богом как верховным сюзереном. Дадут награду за хороший поступок (хоть на этом свете, хоть в будущей жизни)? Ну что ж, неплохо. Накажут за поступок дурной (хоть на земле, хоть в аду)? Да, неприятно, конечно, но не это главное главное, что я изменил себе. Вот, собственно, и вся суть катехизиса и духовного регламента испанского дворянина (и, соответственно, испанской дворянки). А плащи и шпаги это так, антураж. И вот теперь возвратимся к сонету Кеведо. Итак, Флора ему отказала. Вообще-то странно, ей-богу: дон Франсиско, несмотря на свою несчастливую внешность, обладал колоссальным, сногсшибательным обаянием бесстрашного человека, умника, эрудита, острослова, от шуток и эпиграмм которого все просто уписывались (включая и того самого короля Филиппа III, который в награду и заточил нашего героя в темницу - как за хорошую службу, так и за одну из таких эпиграмм, написанных во исполнение собственного девиза я не могу молчать, даже если меня будут призывать к молчанию, постукивая пальцем по лбу или прикладывая палец к губам. Но, в общем-то, даже и тяготы издевательского заточения искупались для Кеведо его собственным осознанием того, что он поступил как должно. "Делай что должно и пусть будет что будет" - вот так он и жил. ...И тем не менее Флора ему отказала, хотя, с одной стороны, отказать ему (в силу названных причин) было для романтической решительно невозможно и, с другой стороны, возможностей уединиться, не привлекая постороннего внимания, было тогда в общем-то предостаточно. Однако Флора, оберегая свою честь столь же тщательно, как и он, на службе Отечества, оберегал свою, ему отказала, на что отвергнутый кавалер ответил не жалобой, не эпиграммой (что было бы естественно), а благодарностью, каковой, по сути дела, и является этот сонет. Благодарностью за немилосердие. Обожать себя велела, а не желать. Однако обожать и желать это, в общем-то, не совсем точно (хотя, с другой стороны, максимально точно в переложении на реалии нашего языка), потому что в оригинале вместо обожать стоит любить, а вместо желать тоже любить. И любить в первом смысле отрицает (или, вернее, преодолевает) любить во втором смысле, то есть любить как желать. А вот теперь я объясню точнее. "Mandme, o Fabio, que la amase Flora y no la quisiese" , то есть, буквально:"Фабьо, Флора мне приказала, чтобы я её любил в смысле обожал (amar), а не любил в смысле желал (querer)". И вот тут я позволю себе небольшое лингвистическое отступление по поводу значения этих двух глаголов, amar и querer соответственно. Начнём с глагола querer, восходящего с латинскому querere. В главном своём значении он означает спрашивать, вопрошать и, в значении второстепенном, производном - хотеть, домогаться (значение querere как спрашивать вполне сохранилось в производном от него английском слове question, вопрос). Таким образом, испанец, произносящий нейтральное, казалось бы, (yo) te quiero (я тебя люблю), подспудно, на нейролингвистическом, так сказать, уровне, подразумевает сразу две вещи: я тебя спрашиваю и я тебя хочу (домогаюсь). Одним словом, (yo) te quiero содержит, следовательно, своего рода постанов вопроса, когда домогающийся, повернувшись лицом к предмету своего желания, спрашивает его (а по сути просто утверждает): Ну как, пошли, а? Вот он каков, смысл глагола querer. Но вот совсем иное дело amar, потому что как раз оно-то и подпадает под знаменитое определение любви, которое дал ей апостол Павел: Любовь долготерпит, милосердствует не ищет своего всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Amar, в отличие от querer никаких постановов вопроса не делает и даже не из опасения получить отказ, а так не делает - и всё. А зачем? - Не положено, и всё. Однако путь от querer к amar долог и мучителен. Хотя, может, долог-то он и не всегда (поскольку длительность такого перехода зависит от качества и продолжительности уже накопленного аскетического опыта), но вот зато степень его мучительности прямо пропорциональна квадрату времени чем быстрее совершается переход, тем от этого больнее тому, кто его совершает, тем острее сама боль. В данном случае о своих страданиях автор умалчивает, ограничиваясь фразой: покорясь в смущеньи. Ну да, смущенье, как не понять... Это ж такой колоссальный удар по самолюбию! Но это - только с одной стороны. Потому что с другой стороны покорясь в смущеньи на своей манер равнозначно тому покорясь в отчаяньи. А чем, как не покорностью-в-отчаянии можно охарактеризовать скорбное житие тонкой рябины? И вот тут-то, на этом самом месте, откуда какой-нибудь унылый, но чувствительный поэт непременно начал бы оплакивать свою горькую планиду, Кеведо делает стремительный вираж, в поэтическом образе взмывая ввысь так резко и с такой головокружительной быстротой, что, не будь это сделано с таким артистистизмом, у того летательного аппарата, которым является лирическое стихотворение, наверняка перегорел бы мотор. Не останавливаясь, не фиксируясь ни самом факте отказа, ни на его причинах (в силу их несущественности в данных обстоятельствах), автор, стремительно набирая, так сказать, метафизическую высоту, с такой же стремительностью мысленно пробегает всю эту клавиатуру любви от земли до самых верхних нот и от созерцания "темницы совершеннейшего тела" восходит до созерцания Высшей Красоты - "той красоты, которой нет предела", потому что Флора, какой бы распрекрасной она ни была, всё равно, как ни крути, является только поводом, только стимулом для того, чтобы воспарить вверх. Но поводом, тем не менее, жизненно необходимым: если восходящую, воспаряющую в горняя аскетическую мысль можно уподобить самолёту, то последнему, разумеется, нужна и своя взлётно-посадочная полоса, чтобы, начиная этот полёт, было бы, от чего оттолкнуться, а потом было бы куда сесть. Вот так и здесь: как бы высоко в облака, демонстрируя чудеса высшего пилотажа, ни воспаряла мысль, очищенная от корыстного желания, она, та же самая мысль, мысль во всей её полноте (и, более того, во всей полноте своего желания), непременно вернётся пусть даже очищенная, дистиллированная, сублимированная на ту же самую полосу, на которой она и начала свой полёт. И как раз именно об этом последняя строка сонета, которая в оригинале (да, может, и в переводе) производит такое впечатление, которое можно было бы описать только понятием мороз-по-коже. Mandme, o Fabio, que la amase Flora y no la quisiese так начинался сонет, и вот в ту же самую точку он и возвращается, завершаясь неожиданным, шокирующим в данном контексте сущкствительным, которое производно от этого amaseamar: Amante eterno soy de la eterna amada. (В чём-то это опять же напоминает нашу "Тонкую рябину", где глагол "качаться" отзывается в обеих строфах - первой и заключительной, тем самым и замыкая круг стихотворения, и подчёркивая ощущение фатальной безнадёжности: "Что стоишь, качаясь..." вначале - и "Знать, ей, сиротине, век одной качаться".) Ну так вот: именно это "amante" в последней строке сонета меня всегда и приводило в некоторое замешательство и даже шок, поскольку речь шла не об эротическом, а о сугубо неоплатоническом стихотворении. И шок этот объясняется тем, что в великом и могучем испанском языке у слова "amante" имеется, в общем-то, только один смысл, а именно любовник. А вот платонических синонимов, обозначающих обожание, восхищение, поклонение, служение, благоговение и т.д., у этого слова огромная куча. И каждый из них был бы здесь уместен, и каждый из них Кеведо, с его-то стилистическим чутьём, наверняка сумел бы приспособить к делу. Однако он, несмотря ни на что, выбрал именно это "неуместное" слово. Единственное. Потому что именно оно, и только оно одно, аккумулировало в себе то самое корыстное и грубое желание, от которого он в процессе своего метафизического полёта поэт оттолкнулся и отказался. Он от своего желания оттолкнулся, он его преодолел, он от него отказался, но он же к нему и вернулся...Это ж какую фантастическую нужно было описать петлю, чтобы из своего апогея "чистого служенья" наиточнейшим образом вернуться в исходную точку - к тому самому желанию, которое надлежало сменить на обожание!.. Ну да, и возлюбленная-то у него вечная (то есть вечен, собственно говоря, тот первообраз, который был, есть и будет вне зависимости от предназначенной к истлению плоти), и сам он вечный, eterno... но, хоть ты тресни, всё равно - любовник. Ну да, я в своё время немало повозилась с этой строкой, подыскивая всякие варианты, и даже остановилась было на поклонник. А потом подумала: Да ни хрена! Потому что что такое поклонник? Поклонник это тот, кто почтительно стоит под балконом, ловит упавший оттуда кружевной платочек, а потом с чувством выполненного долга идёт в близлежащий бордель; поклонник этот тот, кто исполняет своего рода обряд, этикет, удовлетворяет своё тщеславие и не более того. А вот любовник И такое вот окончание сонета (в котором поклонник, естественно, уступил своё место любовнику) отлично объясняется через окончание другого сонета того же Кеведо, на ту же тему: Я буду пеплом пеплом, но живым, я буду прахом прахом, но влюблённым. Такая вот диалектика получается. И, как мы видим, здесь, в изысканном испанском сонете, она, эта диалектика, практически такая же, как и в простонародной русской песне Тонкой рябине: рябина всё равно будет, несмотря ни на что, гнуться и качаться вопреки какому угодно расстоянию, отделяющему её от дуба, вопреки расстоянию, которое не преодолеть ни за что и никогда; и, со своей стороны, поклонник вечной красоты, в каких бы платонических эмпириеях он не витал, всё равно будет оставаться любовником даже и по ту сторону жизни и смерти, когда погибнет всё корыстное и грубое, когда погибнет всё... ...а страстное желанье всё равно останется. Current Music: Casta diva |
abstract2001
|
8:33p | |
romochka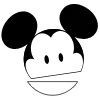
|
8:30p | На рок-фестивале "Нашествие" поклонницы группы "Мертвые дельфины" встали друг другу на плечи, образовав что-то вроде водонапорной башни. Заведующий распорядился написать белилами на боку этой импровизированной башни "1967", добавив для смеху "г." |
kniga_dobra
|
8:18p | Calendar. флотя с днем рождения не грусти. цветочек. --- http://www.livejournal.com/users/kniga_ |
romochka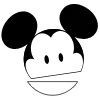
|
8:18p | СМЕСЬ ПРЕКРАСНАЯ Что же было дальше! Небольшой план. * * * Current Mood: мы тут с W. придумали продолжение |
alexmoskalyuk
|
9:14a | web-degisn 5 free Windows Web design apps без которых, как утверждает автор, прожить нельзя. |
bryndush
|
8:13p | Так, хватит про занавески, вот цитата какая хорошая (безотносительно предыдущего): "И явился перед нами архонт западных врат, и глаза его светились как смарагды. И спросил: "Зачем пришли вы в страну смерти?" И мы ответили: "Страна, из которой мы пришли, горше смерти". |
baschmatschkin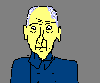
|
8:13p | Социально близкие Вчера, подойдя к ближайшей остановке в четыре часа дня, я обнаружил там трёх бичей. Один из них спал на лавке, двое других по очереди курили одну сигарету. Хотя находились все они на остановке, но было видно, что они не собираются никуда ехать. Когда я шёл обратно, уже в десятом часу, я снова встретил на той же остановке ту же компанию: спавший бич уже проснулся, стоял около остановочного павильона и меланхолично разглядывал прохожих. А на другом конце павильона шёл настоящий пир, появились откуда-то другие бичи, в том числе и женщины. Тогда я понял, что же делали бичи на остановке: они действительно не собирались никуда ехать, они устроились там жить. Правда из их затеи ничего не вышло, и уже на следующий день я никого из них там не встретил: наверное, их забрала милиция. |
dima_stat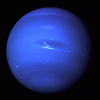
|
6:54p | очень хорошо. Про глаза особенно. На Луне был матриархат. Вы не ослышались, это действительно были маленькие человечки женского вида ростом около метра. Они имели большие красивые глаза. У них тоже были взлеты и падения цивилизаций. Когда планета Луна умерла, произошло отторжение Неба, и зажглось новое Солнце. Потом Солнце еще два раза умрет, оставив после себя еще две планеты. |
baschmatschkin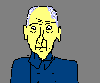
|
8:07p | Credo (Сальвадор Дали) "Гиперреалисту важна реальность. Желая изобразить повозку, он выберет самую обыкновенную таратайку, а не какую-нибудь изысканную или вычурную. Самой простой, обыденной вещью он докажет вам, что мир прекрасен. Того же, что само по себе интересно, он может не заметить. Поэтому гиперреалисты и пишут обыденность, даже пошлость. Они раскрывают нам глаза на то, что мы видим каждодневно: дом, улицу. Привычное, обычное, банальное для них возвышенней всех идей и идеалов.* Пикассо и Вермеер тоже открывали нам глаза на обычную жизнь и писали то, что видели ежедневно. Они не барли моделью ни Парфенон, ни Нотр-Дам". * Я бы лучше сказал: Привычное, обычное, банальное подчас служит лучшим воплощение идей и иделов, чем "Прекрасное" |
korsun
|
6:50p | техническое Гражданам болезненным патриотам невозможно сопереживать. Т.е. нельзя себя почувствовать в их шкуре, технически. Они пишут из такого состояния сознания, словно их однажды очень сильно унизили, и продолжают унижать ежечасно, не позволяя поправить чувство собственного достоинства. Как вроде у пингвинчика-плевательницы вдруг появилась бы душа. "..ну, это примерно как пионер_лж считает себя русским" (по мотивам) |