[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]
Below are 25 friends' journal entries, after skipping by the 750 most recent ones.
| Saturday, April 1st, 2006 | ||
| thenulldevice | 8:23p | r0x0r j00r b0x0r A fairly comprehensive explanation of l33tspeak, its origins, variations (including B1FF/newbie/OMGWTFBBQ!!!1!-speak) and cultural connotations. Also, an article on the "-izzle" suffix in hip-hop slang, and Anglicisms in German. (via bOING bOING) ¶ [no comments] |
| Sunday, April 2nd, 2006 | ||
s0tnik
|
4:33a | Детства моего чистые глазенки... В ходе работ над всякими статьями и докладами вынужден был провести некоторые поисковые мероприятия. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен сканер и полная коробка старых фоток. Как молоды мы были... ( Немедленно опробовал. ) Current Music: Северная Корея - Живем ли мы как в те трудные дни |
dolboeb
|
3:25a | Профессия: борец с врагами России В России готовится наш ответ Билу Гейцу сообщает КМ. Газета Взгляд уточняет, что тотальная замена иностранного ПО и оборудования планируется в промышленности и сельском хозяйстве, а также в паспортных столах, ГАС "Выборы", в здравоохранении и образовании... Если внимательно изучить эту новость, то выяснится, что ее практические последствия в компьютерной сфере пока иллюзорны. В мае законопроект пойдет только на второе чтение. Резонно предположить, что со всеми поправками и согласованиями вступление в силу произойдет не раньше осени-зимы. После вступления в силу правительству будет дан год только на составление списка стратегических отраслей и особо опасных (важных) объектов Российской Федерации (sic). Покуда нет списка, нет и точки приложения... А там или ишак, или падишах. Так что примечательна вся эта бодяга больше с клинической, чем с практической точки зрения. Интересно наблюдать, как стремление попилить бюджетные нефтедоллары на какой-нибудь ура-патриотический проект подливает масла в огонь ксенофобской, изоляционистской риторики северокорейского образца. Весь мир против нас, Windows чума, Биллгейц агент ЦРУ, TCP/IP оружие враждебного проникновения, советский софт он лучший самый... Придумывание все новых внешних угроз стало инструментом для выбивания бюджетов на борьбу с ними. И если раньше таким способом прохиндеи вымучивали казенные миллионы на борьбу с Ющенко, то теперь, вот, добрались и до IT. Интересно, на борьбу с каким врагом попросят разрешения украсть бюджетных денег завтра? |
old_perdun
|
4:21a | Маца к празднику Пейсах! новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим.  новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим. новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви имеют как правило еврейское происхождение (полукровки и квартеронцы), так что всем нормально с этим.  А разгадка одна полукровки! А разгадка одна квартеронцы! |
| Saturday, April 1st, 2006 | ||
ded_maxim
|
5:35p | проекты юзерпиков Что скажете? Какой лучше?  Флюоресценция  Преведение Эсточнег Current Mood: Current Music: Bonnie 'Prince' Billy: I SEE A DARKNESS |
| Sunday, April 2nd, 2006 | ||
hassel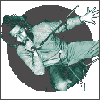
|
3:31a | Макс Эрнст 115 стукнуло! Велика моя любовь к нему. http://news.flexcom.ru/world/2005/0 http://skoobsined.mumidol.ru/me/maxerns Наверняка где что и получше висит. |
moregame
|
2:02a | Анна Герман это все же очень круто. Недостижимо. Current Music: Анна Герман |
tikkey
|
3:00a | март. весна Они ввалились, такие разные и абсолютно одинаковые. То есть, вошли, и даже превесьма чинно, но все равно, ввалились, как обмерзлая елка с улицы 29 декабря, как мокрая сирень, как черт знает что. Они сидели на кухне, и щебетали, и чирикали, и взахлеб хохотали, и махали руками, доставали из воздуха обалденные картины, пили кофе, курили напропалую, Матюх тоже чирикал и хохотал, и мельхиоровая джезва чирикала, и что-то там такое громоздилось на столе, не помню. А потом мы подхватили затормошенного толстого Матюха, втиснули его в уличную одежку и помчались туда, где среди луж, снегов, воробьев высилась серая здоровая плита "Севастопольской". Ну я просто не могла их отпустить, увидеть, как это все будет без меня, нет уж, это выше моих сил, я лучше потащу Матюха на руках на самую верхотуру по ле-сен-ке на 13 этаж, но не упущу это зрелище. Узкая каморка, по стенам огромные связки бус, жемчуга, самоцветы, аметист, вороха кораллов. Смотри, говорю я, вон висят красные кораллы, как связки перцев. Нет, отвечает она, такое у нас носить нельзя. Слишком все правильно поймут. Черный целлофан, в нем несметные богатства -- матовые дымчатые шарики, снизанные в хитром порядке, аметистовая нитка, еще что-то. Ни фига я не художник, я не то что рисовать -- даже фотоаппарата нет, паллиатива, о котором Фауст смутно мечтал, а Мефистофель провафлил. Она лучше всех! Когда она протягивает властную руку к бусам -- вот эти, да нет же, левее, да, они! -- а солнце вспыхивает на ее ренессансных волосах, а улыбается она, как Чеширский кот-вупи голдберговского образца, а сама вполголоса переговаривается с индусом-продавцом, я стою и рисую ее про себя. А потом шарики соскользнут с нитки и повиснут по краям кусочков кожи, где кошки, амстердам, листья плывут. Я любуюсь на них обеих, и на ту, что озабоченно выбирает бусы, и на ту, что незаметно стоит у входа. Понимаю -- она тоже хочет спрятать эту лавочку в крохотный магрибский сундучок, опустить в карман, прямо вместе с индусом и его смуглыми детишками, пересчитывающими бирюзовые браслетики, еще бы не понять! Мы спускаемся, поднимаемся, остаемся одни, теряем в сонме дверей ту, за которой Перу и Эквадор, находим, а Матюх носится по коридору и вдруг замирает. Он увидел слона. Большущего, с подъятым хоботом, покрытого черными и золотыми узорами слоника. Матюх в экстазе гладит ему хобот, и стройные слонячьи ноги, и хвостик с черно-золотой кисточкой. Мы идем по лужам, по марту, больше похожему на зиму, но все же марту. Какой он, Лиссабон? Она рассказывает, она все рассказывает. Как она знает, что это самая тайная моя радость -- входить в города, где меня никогда не было и, может, не будет, скользить по их переулочкам, держась за голос? Я знаю так Польшу, Иерусалим, Прагу, я объездила так всю Германию и Францию. Теперь Лиссабон. И еще этот, который как Питер, как Таллинн. Мы идем в кафе, за тяжелой дверью с кованым кольцом, там красные шторы, перегородки между столиками, Матюх бегает по кафе и пытается улизнуть к снегу и солнцу. Ему приносят сок, а ей ром и колу, а мне "Манхэттен", а зажигалку вписывают в счет, и вот от "Манхэттена" в конусовидном бокальчике у меня уже все плывет, и дым плывет, и мы хохочем, а Матюх под шумок примостился к еще одному яблочному соку. Она прекрасна. Я не знаю, как что. Как лиссабон. Ка магрибский сундук. Как колокольчики. Она прекраснее всех лавочек, ею описанных, и все шали мира существуют только в надежде, что она их коснется, так и висят, трепеща шерстяными кистями, в тщетной надежде прильнуть к ней, к ее могучей земной плоти и небесной, воздушной, невесомой руке. Мы выходим и спускаемся, потом поднимаемся, потом опять спускаемся, это просто невозможно -- вот так взять и уйти в разные стороны, в москву и в лиссабон с зюзинской улицы, покрытой снегом, который уже впитал в себя март. И все же прощаемся, до осени -- ну, до осени, конечно. Среди остатков снега, заледенелая, сжатая, стиснув лепестки рвется мать-и-мачеха. Зато у нас есть весна. |
s0tnik
|
2:58a | Песни японского милитаризма... ...помогают мне бороться с множеством навалившихся на выходные дел. Качать 6 мегабайт. Не пожалеете! Приветствуются отзывы японистов о смысле слов. За музыку спасибо Кстати, по наводке Current Mood: Хагакурэ Current Music: Непонятно, но очень вдохновенно |
michail
|
2:20a | "Где живёт Вася?" Как сообщил ИА REGNUM источник в окружении Тутова, вместе с другими мужчинами, находившимися в этот момент рядом, министр сдерживал атаки превосходивших по численности фашистов в течение 20 минут - пока не приехала милиция в составе одного человека. Приехавший сотрудник милиции, по данным того же источника, не только не принял никаких мер по задержанию нападавших, но и в одобрительном ключе откомментировал их лозунги. У кого-то в ЖЖ я читал, как в Москве некие ходоки размещают срочные заказы на майки с портретами Гитлера.. Думаю, чем ближе к Роковой Дате (20-му апреля), тем больше будет аццких инфоповодов на пресловутую тему. |
nvm
|
2:15a | мне показалось что некуда и незачем круче что так вот алкоголь и забирает лучших но мне сказали что это просто тоска экс-лимоновцев по концу девяностых (выделенная фраза принадлежит |
msd_by
|
1:09a | Фотографии с концерта MOON FAR AWAY в Минске  ( Read more... ) Current Music: Diary Of Dreams - But The Wind Was Stronger |
| Saturday, April 1st, 2006 | ||
smitrich
|
9:07p | А Артемий Троицкий очень-очень пьяный (СТС) Не, я столько не выпью! |
| Sunday, April 2nd, 2006 | ||
dolboeb
|
12:03a | Компромат по-израильски  В день выборов на перекрестке при въезде в Иерусалим юный противник правящей партии раздает проезжающим мимо водителям листовки с компроматом на детей и жену премьер-министра Эхуда Ольмерта. Current Mood: |
| Saturday, April 1st, 2006 | ||
enot
|
3:34p | Пусть сильнее грянет буря... Хреново, хреново, хреново. Лежать, сидеть, стоять, ходить - все трудно. Дышать нечем, отваливается и болит все. Кофечайсыршоколад не помогает, читать нет сил, писать нет вдохновенья. Видеть себя невыносимо, других - еще и негуманно. Единственное желание - избавиться от своего тела: ног, рук, спины, живота, головы и проч. ( Read more... ) |
smitrich
|
8:37p | Борис Бурда стал очень-очень толстый (СТС) Я в его годы его перегоню |
dolboeb
|
11:02p | Палестина без казино Недавно палестинский министр культуры Абдалла Абу-Сабах заявил, что казино в Иерихоне должно быть закрыто. По его словам, в развращении палестинской молодежи и отходе людей от исламских традиций виноваты США и Израиль. "Америка вторгается в наши умы, наши сердца и нашу независимость, подчеркнул Абу-Сабах. Мы обязаны уберечь нашу молодежь от этого культурного вторжения, этого сексуального мышления, поскольку многие уже пали жертвами разврата", NewsRu.Co.IL. Самое печальное, что и Эйлат за последний год окончательно зачистили от этого культурного вторжения, этого сексуального мышления: даже следа теперь тут не найти от плавучих казино, рекламой которых еще год назад были увешаны все улицы и завалены все лотки в гостиницах. Вместо казино тут теперь IMAX 3D, почти как в Химках, только билеты дешевле. До IMAX наши аятоллы почему-то не дотянулись пока. |
corpuscula
|
11:34p | была еще на двух показах, но писать не буду. Потому что все противные. |
wg_lj
|
11:22p | |
tomcatkins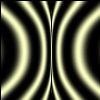
|
11:17p | Стран в мире осталось хорошо если десять. Остальное - корпоративные структуры. |
milonga
|
10:55p | с есенином и ленином тьфу, да я не об этом. вот вы тут сидите, а серьезные люди - не шутят. "Начались подготовительные работы, направленные на создание картины Мужской сезон-2. Время гнева. Один из козырей грядущего кинохита участие американской знаменитости Микки Рурка. Известный актер и боксер всегда тяготел к России, нередко сравнивая себя с поэтом Есенином." и еще о творчестве кумиров: http://www.viymovie.com (рекомендед нажать кнопко "english". ворнинг! хайли пацталом контент инсайд) |
rromanov
|
11:01p | Пегая лошадь. Включил телевизор, а там - "Быстрый и мёртвый". Есть в этом фильме один второстепенный персонаж, индеец, имя которого переводят то "Пятнистая Лошадь", то "Крапчатый Конь". Так вот, господа переводчики. Пятнистая лошадь называется пегой. Пегая лошадь, понимаете? Лошадь пегой масти. А то достали уже, сволочи. Ом мани. Current Music: Adriano Celentano - Gelosia |
kerogazz_batyr
|
10:57p | всё болею... зато, кажется, радикально решилась проблема с похудением к лету. |
oboguev
|
10:48a | conspiracy theories Заговоры лучше всего описываются теорией заговоров. |
r_l
|
9:34p | Вырождение Уже нету что ли ни одного человека, который понимает, как работает протокол SMTP? Кошмар какой-то. |
