Раб Гитлера
"Я, -- рассказывал (якобы) Дугин, -- спас однажды Геннадия Андреевича
Зюганова. Сам я не очень хорошо к нему отношусь... ну а все-таки.
Нас с Лимоновым пригласили в Питер на какое-то патриотическое
заседание. Мы ничего толком о них не знали, кроме того, что там
должны были поддержать Зюганова. Мы приехали, в самом деле... не
знаю, что увидели там другие, а я увидел штук тридцать камер,
блестящее освещение и целые толпы журналистов; согласитесь,
такое очень редко бывает на патриотических заседаниях. Честно
говоря, не бывает просто никогда. А публика там была, вроде
обыкновенного зоопарка; впрочем, хуже. Люди с перекошенными
мордами, увешанные какой-то непонятной символикой, то ли СС, то ли
конфетные фантики... У кого вполлица огромный фингал, даже непонятно,
как это ему поставить такой фингал; у другого грудь и рукава в
свастиках невероятных размеров, закрученных в ту и в другую сторону...
Ходил еще такой человек, у него татуировка на лбу: "Раб Гитлера". Честное
слово, раб Гитлера, и все это снимают как минимум тридцать камер.
Ну, я не знаю как кому, а мне стало ясно, что их согнали сюда
нарочно, и делают передачу: вот такие человекоподобные существа
поддерживают Зюганова. И я стал думать. А нас после
предварительного заседания, ознакомительного так сказать,
повезли в бункер. Лимонов, ведь он человек... такой, начинает
политическую работу, старается их завербовать для себя. А я
думаю, как бы сделать так, чтобы вся эта свора назавтра
поддержала Ельцина? Это же было бы... хотя я понимал, что
этого не покажут.
В бункере всех угощали водкой неограниченно. Я стал подсаживаться
ко всем и вести какие-то такие, очень примитивные, разговоры.
Например: "Как вы думаете, Гитлер хороший?" -- "Хороший." -- "А он
был за коммунистов или против?" -- "Против." -- "А Ельцин за
коммунистов?" -- "Против." -- "Так получается, Ельцин прав?" --
"Прав." И вот в этом роде, еще про русскую государственность.
Наутро, в темных похмельных парах, на трибуну выходит Лимонов,
на него направляют все тридцать камер. И он говорит: "Мы решили
поддержать Бориса Николаевича Ельцина!" И дружный согласный
гром в зале. Говорят, после этой встречи с журналистами кое-кому
устроили страшную головомойку. ...А Лимонов мне потом говорит:
"Что же это такое, Александр Гельевич, вы мне посоветовали? Зачем
я стал поддерживать Ельцина?"
Клуб "Элита"
Рассказывают со слов Дугина, что вплоть до определенного времени
национал-большевистская идеология всюду находила если не
понимание-одобрение, то ласковый веселый прием, особенно в
Петербурге. Были концерты, выступления и многочисленные интервью.
Книжки охотно принимали к печати издательства всех конфессий.
Дугин с Курехиным тогда жили в одной квартире, неизменно обращаясь
друг к другу на "вы" и по имени-отчеству.
В Петербурге, или в Ленинграде, есть между тем клуб "Элита" --
мажорский, как сказали бы хиппи восьмедисятых; мондиалистский,
как говорят сейчас. В нем проводят время богатые люди и модные
журналисты.
Об этом клубе Дугин будто бы рассказывал так. "...И вот, Курехин
мне говорит: приглашают дескать на интервью, клуб "Элита".
Приглашают, что же, мы и пошли; там своя политика, посетителей
оценивает взглядом особый швейцар, или два, но мы вошли просто,
и нас впустили. Сидим и ждем за столиком. Обстановка там
соответствующая: сверкают какие-то хрустальные люстры,
официантки в хрустальных, кажется, серьгах разносят коктейли,
в горшках экзотические растения. И пальмы, знаете: большая
мондиалистская пальма в бочке.
Появляются какие-то двое: очень странного вида. Оба в нечищенных,
как сапоги, свитерах, с прилипшими к ним чешуйками или мышиными
шкурками -- похожи на жирных, но облезлых котов. Причем, их бы
как раз не впустили, если бы они, судорожно жестикулируя, не
показывали на нас через стекло: дескать, вот, вот, мы к ним, которые
уже за столиком!
Они идут, не здороваясь, надвигаются на нас, у каждого с собой по
увесистому портфелю. Эти портфели они ставят на столик, раскрывают
и достают два литра кефира и огромную бутылку вермута. Официантка
как-то опасливо подходит к ним сзади, спрашивает: "Что-нибудь нужно,
может быть, что-нибудь принести?" -- "Нет, -- они говорят ей, --
нам бы только каждому по паре стаканчиков. Вы нам четыре стаканчика
дайте." Она несет им пустые стаканы. Они наливают себе каждый до
краев, в один стакан кефира, в другой -- вермута. И выпивают:
вначале кефир, а вермут сразу после, без паузы.
Потом они садятся на стулья и долго молчат. И мы тоже давно уже
молчим: просто смотрим. Через какое-то время они повторяют действие
со стаканами. Повторивши несколько раз, один из них достает из
портфеля засаленную колоду карт, и они начинают резаться с азартом,
прямо на столике. Постепенно они напиваются вермутом, причем один
из них еще ничего, сидит себе молча, а другому зачем-то вздумалось
встать. Он встал и попытался уйти, но пока искал дорогу, запутался
в пальме. Она в самом деле большая, развесистая, но при всем том
запутаться в ней непросто. И вот он шевелится, при своих необъятных
размерах, пытается из нее выйти, а она как-то его не пускает. И на
все это, на нас в том числе, круглыми от ужаса глазами с почтительного
расстояния смотрит официантка.
В конце концов он просто пошел обратно, пятясь задом, и это как
раз ему удалось. Он снова уселся за столиком. Кефир они к тому моменту
уже выпили, а вермута оставалось на донышке. Тут мы им говорим:
"Извините Бога ради; чего же вы, собственно, от нас хотите?" --
"Да нам, -- отвечают, -- от вас ничего не надо. Не хотите вот
только вермут допить... тут это, осталось."
Мы вернулись к себе -- ну, думаем, клуб "Элита" -- ни о чем не
подозревая, но они потом еще долго преследовали нас. Звонят, например,
в три часа ночи: "Извините, пожалуйста, не могли бы вы завтра
выступить, там-то и там-то?" -- "Нет, -- говорю, -- мы не могли
бы там выступить." -- "А как же, -- говорят, -- мы вас уже объявили,
и билеты все проданы..." И так без конца: эти двое возникали в самых
неожиданных местах, на каждом шагу, так что мы, Курехин и я, к устроителям
каких бы то ни было мероприятий стали относиться с нездоровым, может
быть, подозрением.
Позднее я уехал в Москву, и какое-то время спустя звонит мне Курехин
из Питера: "Александр Гельевич, нас приглашают выступить в ЛГУ."
Я сразу спросил: "А что, Сергей Анатольевич, люди-то... нормальные?"
-- "Да, -- говорит, -- звонили как будто, совершенно нормальные
девушки." И я тогда поехал -- что же, хорошо, нормальные девушки.
На выступление мы поехали вместе на машине, но на всякий случай
взяли с собой Циркуля и Безрукова. Циркуль -- да, это настоящая
фамилия -- тяжелый шизофреник, он очень любит выступать перед
публикой. Несет всегда жесточайший бред... А Безруков --
актер. Он играет в боевиках, в кино, такого мужика, которого всегда
мочат в сортире. Мы взяли их с собой на тот случай, если это
все-таки клуб "Элита"; чтобы сказать -- извините, Курехина и Дугина
сегодня не будет, а зато перед вами выступят Циркуль и Безруков.
А если все нормально, всегда можно попросить их подождать в
раздевалке.
И вот, мы выходим из машины, нас встречают две девушки --
действительно, с виду совершенно нормальные девушки. Мы немного
поговорили с ними на лестнице. Вдруг одна из них как-то глупо --
подозрительно глупо -- улыбается и говорит: "А устроители сейчас
придут." И начинает спускаться по лестнице. И сумка ее, с длинным
ремешком, зацепляется и путается в перилах -- она начинает
возиться, пытается отцепить эту сумку, но при этом запутывается
сильней. Клуб "Элита"! Я смотрю на Курехина и говорю ему: "Знаете,
Сергей Анатольевич... что-то мне это напоминает." -- "Да, Александр
Гельевич, -- соглашается он, -- что-то здесь не так."
Мы смотрим вверх и видим, как нам навстречу спускаются эти двое,
радостно улыбаясь.
Я не помню, как там было дальше -- кажется, мы заперли их в
гримерной: в дверную ручку просунули швабру. А сами вышли на сцену
вчетвером.
Кстати, темы выступлений они всегда придумывали и объявляли сами.
В этот раз тема была "Нужна ли человеку душа". Какая душа, что
еще за душа? Ну ладно. Что я рассказывал, я не помню; что-то
очень серьезное. Курехин -- как обычно, у него все вообще, как
большая такая Поп-механика, воспринималось... Циркуль рассказывал
им про мух. То есть, он начал сперва -- дескать, бывает душа такая,
душа другая, вот например мухи -- и дальше уже только про
мух. Аудитория собралась специфическая, чтобы посмеяться; она все
и принимала на ура -- и философию, и Курехина, и мух; Циркулю
хлопали, страшно довольные, совершенно не догадываясь, что у
него диагноз "не может передвигаться самостоятельно"... А под занавес
Курехин предложил побить Безрукова, мотивируя это тем, что он-де
бездельник: мы все втроем старались на сцене, а он стоял в стороне
и угрюмо молчал."
 Например, СМЕРТЬ БЛЯДЯМ. Каким блядям, почему? Я его спрашивал,
но он не смог мне сказать. "Что же вы, -- говорю, -- клеили
плакаты не в том районе, ведь там их не нужно?" -- "Я хотел,
как лучше, -- он говорит. -- Чтобы везде было." Несколько
наших плакатов он отчего-то наклеил в сортире. В платном
общественном туалете, пошел и наклеил. Я спросил его, а это
зачем? Он говорит: "Ну... я подумал... у нас пока партия
маленькая..."
Например, СМЕРТЬ БЛЯДЯМ. Каким блядям, почему? Я его спрашивал,
но он не смог мне сказать. "Что же вы, -- говорю, -- клеили
плакаты не в том районе, ведь там их не нужно?" -- "Я хотел,
как лучше, -- он говорит. -- Чтобы везде было." Несколько
наших плакатов он отчего-то наклеил в сортире. В платном
общественном туалете, пошел и наклеил. Я спросил его, а это
зачем? Он говорит: "Ну... я подумал... у нас пока партия
маленькая..."
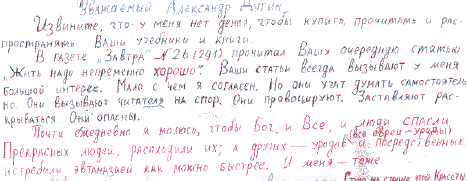 Раб Гитлера
Раб Гитлера