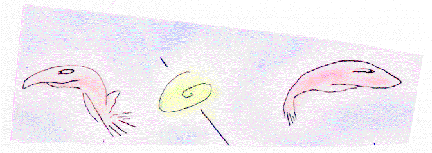
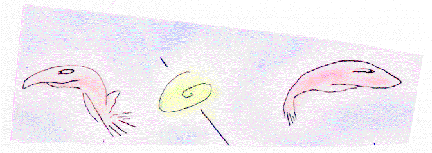
Кнопку отказа от прессы заклинило. Однако, вместо того, чтобы ни газетам, ни журналам не получаться, просторную прихожую по щиколотку завалило бумажным мусором. Я такого не видал никогда, и не думал, что так бывает. Приглашения вставить протезы себе в рот, заказать пиццу, продиктовать топпинг для пиццы в одноразовый телефон, по которому (если у него выигрышный номер) можно потребовать еще один бесплатный одноразовый телефон, по которому можно заказать топпинг для пиццы и, если у него выигрышный номер... Можно заказать секс по телефону, только безопасный. Можно заказать на дом живую или говорящую пиццу с тем, чтобы подстрелить ее из одноразового духового ружья. Можно пожертвовать средства нуждающимся, для каковой цели приобрести лотерейный билет. Можно заказать лотерейный билет по одноразовому телефону, и в случае выигрыша... подстрелить его из ружья... из ружья.
Можно заказать пиццу с топпингом в форме голой негритянки, обнаженной мулатки, женщины-европеоида, "Мыслителя" Родена, с топпингом в форме одноразового телефона, но об этом я знал и раньше. Чего я не представлял себе, так это масштабов бедствия: если испорчена защита, разноцветная почта может затопить целый дом за пару-другую дней. Выходит, не обманула реклама автоматических фильтров по ящику...
"Реклама и половой вопрос. РЕКЛАМА ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ЖЕНЩИН, ТАК И МУЖЧИН" -- бесплатная брошюра районного фронта феминистов (и бумага похуже). На обложке изображена обнаженная зачем-то модель. Здесь же реклама газеты для бездомных: в несколько листов мягкой пористой бумаги, с плохой печатью, но толстых. На мое имя выписана всего одна газета, и в последнее время я стал ее читать ради "опасной" хроники, уже два номера как вынесенной на первую полосу. Мне случалось служить ассистентом у репортера, и я знал, как делаются хроники: когда думаешь о них, утопая по щиколотку в описаниях пиццы, на ум приходят искусственные ароматизаторы. В хрониках нет ни слова правды, точнее, это другая правда, в которой все слова повернуты боком, и подсветка идет не с той стороны. А все же нельзя не пристраститься к хронике, даже если можешь про себя разложить на элементы ее состав. Есть в ней привкус актуальности, живо эдак трепещущий, и от него не уйти.
Пробираясь вперед (от чего целая разноцветная буря разыгралась в бумажном море), я толкнул дверь в гостиную. Пресса хлынула в открывшийся проем, добралась до половины ковра, осыпалась там и задрожала на сквозняке мелкой рябью. Я вышел на берег и огляделся по сторонам.
В общем, можно было поесть, а хронику послушать по ящику, но включать приборы мне не хотелось. Чего доброго, застрянешь на целые сутки, да и голова болит от них. Медики объясняют это волнением в эфире, а от него, дескать, не найдено средств.
Ящика я не тронул, и даже наоборот -- активировал шумовой фон. Ощупав для чего-то голову, я сел в кресло, поиграл пультом пищевого автомата, послал куда-то заказ... и провалился в странные мысли. Как же будут дальше развиваться события, хотя бы только на передовицах газет? Все очаги эпидемии покамест казались далеко, но редко когда они вспыхивали поблизости друг от друга. Огоньки на карте мелькали как новогодние, по закону, которого не отследить на глаз. А может, просто подключили генератор случайных координат.
Вот был репортаж из Воронежа (маленький город на острове в Море): будто бы жители в нем выходят на улицы и строят старинные университетские кварталы, прямо со страниц архитектурной энциклопедии. Инъекции -- конечно, инъекции, но чуть только лекарство закончит действовать, как больной снова выходит из-под контроля. Установили наблюдение за десятком больных, предоставленных самим себе. Вначале казалось, что они действуют сообща и даже в ходе работы обмениваются репликами, но это впечатление скоро рассеялось. Каждый из них был способен возвести определенную часть постройки, и не раз случалось, что больные мешали друг другу, разбирая почти готовую работу соседа на кирпичи для своих целей. Никаких ссор, однако, не замечалось, если не считать беспорядочных столкновений в буквальном смысле этого слова. Лишь одна из построек, выполненных больными, представляется вполне законченной, пишут газеты, и сообщают, что это древняя часовня, а в ней не то покосившийся, не то с намерением перевернутый крест. Видел я снимки этой часовни: обыкновенный кадр одноразового кино.
По реке Дунай плывут трехмачтовые фрегаты: хороший снимок и красивое зрелище. Здесь болезнь сработала успешно, при спуске на воду (разумеется, и его осуществляли больные) затонуло всего несколько кораблей. Некоторые жертвы эпидемии приобрели неодолимую склонность к миграции: в одном выпуске с негодованием отвергались слухи о массовых отстрелах таких "перелетных" больных, в целях будто бы соблюдения карантина. Похоже, что это не голая выдумка; я, во всяком случае, знаком с очевидцами ранних всплесков эпидемии. Кораблей с часовнями они не видали, и вся болезнь, по их словам, протекает так: люди садятся за стол и подолгу разбирают бумаги -- безразлично, какие, чаще всего обыкновенный джанк мейл. Взгляд у них делается пустой, но и тяжелый, щеки надуты заразой. Один из моих сослуживцев, вернувшись из венской командировки, рассказывал об уморительном происшествии: несколько десятков больных заявились-де в музей политических технологий, заняли кабинет, расселись за массивные столы из дерева, стоявшие в несколько рядов, как моряки на параде, и положили перед собой по стопке бумаг. Какое-то время каждый усердно крутил у своего носа то один, то другой листок с чрезвычайно сосредоточенным и в то же время рассеянным видом. Вдруг один толстенький больной, улучив минуту, воровато огляделся и подсунул бумагу из своей стопки соседу справа. Его жест был замечен, кто-то из товарищей по несчастью последовал его примеру, вслед за ними беспокойно завертелись другие, как бы стремясь во что бы то ни стало избавиться от своих бумаг (кроме трех-четырех листков, которые оставляли перед собой, чтобы иметь занятой вид). Но в верчении этом было нечто подозрительно механическое: так, сидевшие у стены и потому не имевшие соседей с одного боку, долго не думая, кидали бумаги в окно.
Сослуживец уверял, будто вид этих людей, занятых на удивление неосмысленным, но вместе с тем заведомо важным делом, как-то завораживал и даже не отпускал от себя. Сам он оказался рядом почти случайно, по делу личного свойства (в музеях еще попадаются хорошенькие сотрудницы). Но вот, забыл обо всем, встал у двери и наблюдал за перекладыванием бумаг. А когда понадобилась помощь (внезапный взрыв темперамента сидящих у стенки почти все бумаги унес в окно) -- сходил вниз и принес больным рекламных плакатов, сам не зная, как это вышло. Вскоре после этой истории он снова уехал в командировку и оттуда не возвращался. Не такое это простое дело, хорошенькие сотрудницы, и тут я задумался совсем о другом.
С тех пор, как секрет смерти утерян, некоторые вещи меняются все быстрей, и нет той стабильности, и реклама не приносит прежний доход. Пятьдесят лет назад в больницах еще держали младенцев, а сейчас их уже ни одного нет, так что их место прочно занимает вирусология. Я не ханжа, не неофоб, как говорили раньше -- но про себя я рад, что услуги генной инженерии стоят больших денег. Мода на цвет глаз, на прически, на голые ноги, на полные или хоть бы маленькие груди у женщин, все это еще куда ни шло; но лицо -- это все же особое собрание органов на человеке... мода на лица... как хотите, а у меня бегут мурашки по коже, и сколько я ни привыкай, будут бежать и бежать. Впрочем, подозреваю, что моя последняя любовь носила чужое лицо.
Вдруг поднявшись из разноцветной груды, прямо к моим ногам подлетело приглашение: "Над Внешним Видом Стоит Поработать!" Социологи (об этом я слышал, или прочел в газете) уверяют, что "работа над внешним видом" на глазах превращается в отрасль чистого искусства, бескорыстного и преходящего. Первые сигналы -- искусственные горбуны, калеки, женщины-одноглазки с сухими пальцами и синеватой шеей -- уже украсили собой престижные светские салоны и с самым вызывающим видом ходят по улицам. В свое время, когда кровь горячее бежала по моим жилам, я нарочно занимался этим вопросом под руководством одной премилой девушки намного старше и опытнее меня, хотя, конечно, на вид не скажешь. В учебнике мы нашли, что эстетика здоровья и здоровых пропорций в древних культурах напрямую связана со взглядом на размножение. Выступая с позиции против, пили уксус для бледности, или румянили щеки лихорадочно красным порошком, указывая на туберкулез легкого (болезнь, от которой можно было умереть в несколько лет). Сейчас, когда этот вопрос уже не стоит так остро, и вообще не стоит -- сейчас, когда, например, большинство моих коллег последнего поколения так и не испытали близости с женщиной, а кто испытал, разочаровались... я вспомнил N. в защитных очках и в голубом платье, и мои мысли снова приняли совершенно другой оборот.
Незаметно для себя я проглотил что-то мохнатое, кажется, пиццу, и уже мешал ложечкой чай, как вдруг звякнула крышка почтовой щели. Дверь из прихожей я не закрыл, и вот, полоса бумажного мусора у моих ног пришла в движение. Начинался прилив. Не окончив завтрака, я схватил бумажник с магнитками на первый случай и побежал прочь через задний ход -- даже не успел взять портфель, о чем не раз потом пожалел.
Впрочем, оказалось, что мне повезло: не выйди я вовремя... но об этом позже. Если, конечно, удача до тех пор мне не изменит.
Хуже всего (думал я, прыгая через люки), что со мной нет карты, или хотя бы карточной схемы улиц. Я бы не боялся заблудиться, если б канализация была в порядке. Прямо передо мной, шагах в десяти, откуда-то взялся слепой, и маячил теперь впереди, неуклюже семеня и дергая палочкой. Вдруг он оступился -- ну да, конечно, там была сдвинута крышка. Как видно, он ослепился недавно и не заказал себе в ушные раковины ультразвуковых навигаторов (операция по удалению глаз и без того сильно бьет по карману). Переходя с линии на линию по платным переходам, и то рискуешь бог весть куда провалиться, но это все-таки сотые доли процента. (По крайней мере, на такой цифре настаивает наша транспортная монополия.) А вот если ступить ногою в открытый люк -- прежде чем сориентируешься худо-бедно, убьешь полдня. Зато бесплатно... Ну что ж.
Я шел и шел; на небе, занятом темнотой, уже серебрилось магнитное сияние, и надо было куда-то свернуть. На другой стороне улицы я заметил мигрирующий орден подземки. Побежал за ним, боясь упустить; голубой его огонек, как будто узнавши меня, обрадовался, замигал и принялся кружить между сломанных светофоров, печально склонивших книзу руки и головы. По тому, как их становилось все больше (и даже тумбы рядом с ними были разбиты), я понял, что блуждающий огонек вот-вот заведет меня в Йобские Болота. (Так называлась у нас часть города, где жили йобы.) Надо было действовать. Я прыгнул вперед и, изловчившись, ухватил орден левой рукой. Он успел промигрировать, но я уже держал его, и мы вместе с ним полетели на мостовую вниз головой. Вызов меню не работал (он никогда не работает)... люк... люк, и крышка еле прикручена... меня всегда, всегда, кажется, с самого детства пугали люки! К счастью, я все же успел задействовать прямой ход, так что попал не в люк, а в обыкновенную скважину. Уфф... дешево отделался! Я летел, ожидая мягкого приземления, и чувствовал себя победителем. Сегодня на мою долю выпало не одно испытание; неисправности, одна за другой, грозили уничтожить мой день. Но я не поддался! Я, ох. Приземление оказалось не таким уж мягким: как видно, у них снова барахлили амортизаторы.
Панель управления, встретившая меня внизу, громко запищала, требуя платы. Я стал рыться в бумажнике в поисках нужной магнитки. Когда-то я не пожалел денег и ввинтил в свой череп регулятор слуха: дернешь бровью, и писки, рокоты, верещания разнообразных панелей перестают тебя донимать. Спокойно находишь все, что надо, платишь не торопясь, а до тех пор пускай себе надрывается визгливая дрянь. Теперь, однако, почти везде стоят приборы нового поколения -- они перешли на модуляции, проникающие непосредственно в голову сквозь трепеты черепной коробки. А вывинтить регулятор обратно стоит больших денег... Пришлось отучиться от привычки поводить бровями, заслыша где неприятное. Впрочем, так оно, пожалуй, и лучше: меньше пугает встречных прохожих, да и смирения больше в том.
Пропуск, оплаченный вперед, никак не желал находиться. Панель управления испускала неистовые рулады. Туннель скважины, оканчивающийся вверху какой-то гнусной присоской, съежился и обмяк над головой, как кишечная полость. Я не знал, что будет со мною дальше, если я задержусь с оплатой; советы инструкции "сохранять спокойствие" в этом случае звучали зловеще. Я вспомнил рассказы о леденящих душу воплях и завываниях, вдруг доносившихся из-под кирпичика мостовой около полуночи: это-де подземные граждане, навеки запертые в тупиковую скважину, то там, то здесь поднимались на мгновение вверх и выражали протест... Дрожащими руками, стараясь не смущаться визгом панели, я вынул наугад одну из магниток и заплатил втридорога, заемной манерой, чтобы только не висеть здесь, между землей и дном, которое ниже самой земли.
Писк у меня под черепом стал ритмичней и тише. Внезапная щель слегка раздвинулась, чавкнула моей магниткой; помедлив немного, раскрылась сильней и проглотила меня вместе с бумажником, с прыгающим сердцем и, увы, без портфеля... но об этом речь впереди.
Два-три жестоких мгновенья, от которых душу выворачивает наизнанку -- когда выключается мозг, как от щелчка тяжелой мышью, и слышен лязг темноты. Я очнулся, а вернее, собрался с мыслями уже в тряском вагончике, как это бывает со мной всегда. Кое-кто из моих сослуживцев устроен так, что пробегает подземную прихожую в здравом уме и твердой памяти, но я таким не завидую, опираясь на их же рассказы... а они мне -- еще как. Итак, я должен был, вероятно, добраться до службы. День был полуприсутственный, а не такой, когда всякому вменяется приходить. Что я мог бы делать на своем месте? Сидеть согнувшись в три погибели и уничтожать, зевая, одну за одной лишние копии? С тех пор, как автоматы отказались ликвидировать документацию -- а ведь я ни минуты в это не верю: бунт автоматонов! мятеж роботов! Ящичные россказни, литература и беллетристика. Службу придумали с тем, чтобы запретить побочные потоки у времени, сделать его единообразным и добиться, чтобы за ним следили, хоть бы и в кабинетах, и чтобы надо всеми гражданами получился контроль. Если у человека нет ни начала, ни конца, на что ему время? Но власти вечно думают за нас. Запретили даже, будто бы в интересах пристойности, дамские часы с хитринкой, а я их помню, славные были часики, и пристегивались как-то так интересно... хотя теперь-то, конечно, для большинства...
Но это я говорю сейчас, пытаясь собрать мысли: удастся ли? от одного везения все и зависит. А тогда, оказавшись в вагончике, все еще с надеждой застать на службе кого-нибудь из тех, кто разбирается в противопочтовой защите, я ни о чем таком подумать не мог. На большой глубине мысли текут иначе.
Сперва, как обычно, я огляделся по сторонам, дожидаясь, пока неприятное чувство оставит икры ног и утихомирится сердце, а в голове немного прояснится туман. Чтобы прогнать мурашки, я шаркнул подошвой ботинка и вдруг увидел как будто кровь под ногой. Тут же я понял, что это не кровь, а краска. Пол, потолок, стены и двери были красные, и даже сиденья красные.
Я попал в красный вагон.
Здесь я должен снова отступить от своего изложения -- ведь если не знать, что значит красный вагон, то и остальное будет неясно. А я очень хотел бы доказать свою добрую волю, даже если б не это сейчас решало мою судьбу.
Красный вагон -- одна из официально зарегистрированных флуктуаций. Возможно, это фантом из прошлого, что-то вроде "мифологического артефакта", я не слишком разбираюсь в этой науке. Современную коллективную галлюцинацию я видал и, стыдно признаться, ничего в ней не смог понять, но исторические -- дело иное. Они очень опасны и, если дать им волю, начнут подстерегать на каждом углу. Красный вагон... но нет. Боюсь, мне не удастся вам рассказать, что такое красный вагон.
Итак, я замер от ужаса; кажется, ни одно сердце во мне не билось. Я ждал и знал, что нельзя ждать, и только сильнее жался от этого в угол кресла. Я думал, что будут насекомые, но их не было -- ни насекомых с ужасными жалами и глазами-фасетками, ни скользкой живой змеи, которая глотала бы их и глядела бы неотрывным взглядом, лишенным век. Вместо этого посреди туннеля, на полном ходу, напротив пустой-препустой пустоты раскрылись вагонные двери, и вошел человек в белом халате, в белом колпаке и в фартуке, с подносом на руках. На фартуке было несколько красных пятен. Человек был толст и мясист лицом.
Ни слова ни говоря, он подошел к моему сиденью и остановился, протягивая поднос. На лице его состроилась было препохабная мина, и в тот же миг оно приняло строгий вид.
На подносе лежали котлеты. Они были влажные, из них сочился, образуя по краю лужицы, красный сырой сок.
-- Полуфабрикат, -- пояснил он, глупо ухмыляясь. -- Человечина первый сорт. ...Свежие, -- добавил, помолчав и оскалив наконец дорогие порченые зубы в ужасной улыбке.
Я смотрел на него, а он смотрел на меня. Руки его, с засученными рукавами, придвигали поднос под самый мой нос; я не хотел видеть котлеты, но принужден был взглянуть. Запах мяса, странный и страшный, в сущности, не лишенный соблазна, наполнил меня всего. Каждая котлета была поименована: чем-то синим, верно, чернилами или краской, на их круглых боках были выписаны имена моих сослуживцев.
Не имея более сил оторвать взгляд от подноса, каким-то чутьем я знал, что делается кругом меня. Стенки, пол, потолок красного вагона налились красной кровью и пульсировали в безумном ритме, от которого шевелится в груди и подступает к горлу мучительный страх. Я должен был сделать выбор, который -- так я чувствовал -- неминуемо погубит меня. Я переводил взгляд с одной надписи на другую... странно... вдруг ее имя -- то, чего я никак не ожидал увидеть на этом подносе -- бросилось мне в глаза. Сам не зная зачем, я быстро протянул руку, жадно захватил ею и сжал влажную, еще трепещущую котлету... писк, скрежет, как от сотни управляющих панелей, и дикий хохот, и птичье хлопотанье белого халата, широко расправлявшего надо мною свои рукава, оглушили меня.
Очнулся я в переходе, где ящики нижнего уровня уже протяжно мычали от переполнявших их новостей. Непонятная схема махала разноцветными ветками: как быстро они подсоединялись друг к другу, как быстро разлетались в стороны, иногда на многие квадраты, чтобы пристать к совершенно другим цветам! А я должен был изловчиться и выбрать маршрут: ведь я вошел не с главного хода, так что расчетная программа меня не вела. То, что произошло со мною в красном вагоне, вспоминалось медленно, неповоротливо, как сквозь возвратное стекло; я потерянно стоял перед схемой, не имея ни мыслей, ни чувств, чтобы ужаснуться своей судьбе.
N., пожалуй, только проснулась: женщины теперь встают поздно. Может быть, успела позавтракать: побеги молодого бамбука, китайские отбивные. Накинула халат или кимоно. Решает, что ей делать: остаться дома? поехать в клуб феминистов? на танцы? к модистке? заглянуть на службу? обратиться в бюро чувствительных услуг? Боже мой, боже мой. Отчего я не знаю, как заговорить с ней об этом -- ведь она видит, что я увлечен. Пожалуй, вдруг ей скучно это, да и в чем здесь может быть интерес. Расстояния между людьми становятся все больше, это я чувствую по себе: истинно, пропасть, через которую давно уж не перебрасывают мостов. Для чего бы? У нее, верно, есть приличный комтрюй -- если бы она и думала обо мне, эта штучка превратила бы для нее беглую мысль в мгновенное наслаждение, и не пришлось бы беспокоиться, пробивать дверь в стене, кидать через пропасть мост. Теперь, кажется, все это лишено смысла. Я и сам не знаю, отчего меня не отпускает тоска: точнее, знаю сам, что тянет к необъяснимому.
Все, что я пишу о ней в этом отчете -- не более, чем предположения. И хотя мне рисуется с непривычною остротой всякая деталь ее утреннего туалета, всякое движение ее фигурки, выпрастывающейся из пижамы точь-в-точь как змейка сбрасывает свою кожу -- милая неряшливость уединенных манер; хотя я мог бы указать взаимное расположение предметов обихода, скромных и нескромных, кругом нее, -- если бы я занялся описанием, вышла бы голая фантазия и ничего кроме. Люблю ли я ее? Увы! Как сказал поэт, мы, подобно Летучему Голландцу несущие на себе проклятие Вечности, изгнанные от гнева Ея, осужденные вместо Нея на вечное повторение втуне сменяющих друг друга, равно непреходящих минут -- что можем мы знать о Любви? Я позабыл, на котором языке эти слова складно рифмуются между собой в превосходном ролике для напитка "Мужская Сила"; верно, по-итальянски.
О деталях, которые лезут на ум, я промолчу. Скажу только, потому что знаю наверное, что в последнее время N. приобрела несвойственную ей прежде склонность к одиноким прогулкам в метро. Развилось ли у нее что-нибудь вроде аддикции к ощущениям подземной прихожей (подобные вещи очень бывают с женщинами), импонировала ли ей весьма превозносимая рекламой романтика случайного риска, достался ли ей в лотерею бесплатный билет, наконец, -- так или иначе, но она полюбила внезапно покинуть дом и безо всякой цели спуститься вниз, добравшись до ближайшего узла или просто воспользовавшись скважиной. Так вышло с ней и на этот раз.
Также знаю наверное, из ее собственных слов, что по дороге с ней приключилась неприятная, неожиданная история. У нас ведь -- ах, снова я должен отступить от прямого изложения; поверьте, что ненарочно. Надо вам знать, что зимних праздников у нас почти никто не справляет. Елочные игрушки, Санта Клаус и Женщина, все имеют память внутри и источник энергии, который не выключается. Их складывают в ящики и отвозят хранить под землю, и в этих ящиках они болтают без умолку, а поскольку их нельзя изолировать, то они всем возможным словам учатся друг у друга. Елочные игрушки грубы до чрезвычайности, манеры у них самые развязные, так что во многих районах местные власти давно уже издали приказ их конфисковать. Но елочные -- сущие агнцы по сравнению со старинными куклами и животными тех времен, когда в городе еще водились дети. Мне самому однажды довелось пережить встречу с самообучающимся плюшевым мишкой, который когда-то спал со мною в моей кровати; потом для таких игрушек, кажется, организовали музей, куда его и отдали. Музей, видимо, разорился и выбросил на улицу свои экспонаты... С тех пор, конечно, прошло немало лет -- огромный срок для электронного медведя. Во-первых, он вырос. Во-вторых, сделался неопрятен, и от него пахло мясом. Пришел он с Йобских Болот, ведь именно там сбиваются в стаи его сотоварищи. Я узнал его только по пятну в форме виселицы, которое один мой приятель, будучи у меня в гостях, выжег на его груди несмываемой белой краской. Выражался мишка до того грязно, что я с трудом его понимал; к тому же он то и дело сбивался на древние диалекты. Я думал, что он меня съест (с таким ужасным ревом в первую минуту он ко мне кинулся). Но нет, он хотел другого; уж и не помню, как я отговорился. Он ушел, и больше я его не встречал.
Итак, N. вышла на улицу и в охранных лабиринтах подъезда столкнулась с небольшим, совсем небольшим барашком. В недоумении она остановилась: как могли бы детекторы его пропустить? Барашек, белый, с завитой шерстью, качнулся на тоненьких ножках, облизнул губы языком и внимательно посмотрел ей в глаза.
Он что-то сказал ей, но что, она мне не передавала. Обмолвилась только, что бежала потом, не чувствуя ног, сама не своя от страха. Гнался ли кто за ней? этого она не могла знать. Она миновала несколько кварталов, и там, на незнакомом уже перекрестке, блуждающий огонек чуть не кинулся ей в лицо. Перепуганная женщина схватила его рукой, вызвала скважину, придерживая юбки на странном подземном ветру, щелкнула кнопками перехода... я обернулся и не поверил своим глазам. Это была она, живая N., не фантом и не галлюцинация. Впрочем, кто и за нас-то самих поручится нам?..
Тогда, разумеется, я не спрашивал ручательств: волна счастливой растерянности захлестнула меня. Я сделал к ней шаг и, кажется, взял ее за руки. Кто-то из нас что-то сказал. Схема махала многими рукавами, зажигала и гасила свои огни, новостные ящики гудели ниже и ниже. Это были славные мгновения, я желал бы их пережить еще раз, но и тут боюсь, что я не в силах их описать. Не то чтобы память стала мне изменять, а только нечего и помнить в том: ни событий, ни какого-либо иного содержания в тех минутах не было, разве вот счастье, пролетая куда-то мимо, осенило своим крылом.
N. имела в своем распоряжении оплаченную карточку аварийного выбора. Когда я рассказал ей о моих мучениях, она посмеялась, но и ужаснулась немного: призналась, что и помыслить не могла, как это такое бывает с людьми. Мы договорились отобедать вместе, но перед тем заглянуть все же на службу, у нас там жил в одном коридоре системный администратор. "Так что, -- сказала мне N., -- даже если никого не найдем, попробуем добиться толку от этого. Он-то на почтовых защитах собаку съел." Я не верил, конечно, что N. сможет разговорить системного администратора, но рад был ее участию, да и вообще просто рад. Панель съела карточку, показала на экране какие-то невообразимые знаки, скачущий граф возник на мгновение, осветился весь -- и вершины, и ребра -- потусторонним светом глубочайших глубин и -- скрылся, установившись в искомый маршрут. Мы расположились на сиденьях; это был, о чудо! самый обыкновенный вагон, и все той же потустороннею силой нас повлекло вперед, по кривым дорогам подземных пространств.
В одном окне играла радуга, в другом всплывали и лопались разноцветные пузыри. Мне хотелось, чтобы там показались как бы два сердца, пронзенные стрелой: я встречал такую игру картин. Это помогло бы поддержать разговор в том русле, в какое я надеялся рано или поздно его направить. Один сослуживец, в прошлом ученый, рассказывал мне, будто заоконные пейзажи подземки -- самые натуральные явления природы и ничего кроме, что будто бы их можно очень легко расчислить из оптики, и что, таким образом, транспортная монополия сильно хитрит, включая их в стоимость билета. По этой самой причине, он говорил, когда едешь, картины нельзя заказать заранее. Я ждал и смотрел то в одно окно, то в другое, но нигде не выходило простреленных двух сердец.
Без каких-либо приключений, прыгнув в три перехода, мы очутились на нужной станции. Чинно проехав вперед и вверх лестницами, вышли из разинутой пасти постоянного наземного узла. Я хотел предложить N. руку, но испугался, что выйдет неуклюже. Здание службы стояло как раз напротив, так что, благодарение Богу, от узла поверху было недолго. Дул ветер, швыряя под ноги разноцветные листы бумаги и тонкого пластика, следы работы экстренной почтовой защиты (очищающей дом постфактум от просочившейся почты). Едва не поскользнувшись, N. произнесла сердито:
-- Как в археологическом слое живем.
Служба раздвинула створки. Подвижной половичок слизнул нас внутрь здания. Мы вовремя сообразили сойти с дорожки: иначе детекторы развели бы нас по разным оффисам, и до ближайшего перерыва мы бы друг друга не увидали. Нужно было двигаться своим ходом, и как только я проговорил это про себя, в груди моей шевельнулся холодок, а по спине пробежали мурашки. Моя спутница обернулась ко мне, наши глаза встретились. Мне стало и страшно, и весело разом: подумать, как давно я не пускался в подобные затеи! Кажется, почти что и никогда.
Мы пошли вдоль стены и увидели, что она состоит из мелких камешков, черных и белых, собранных вперемежку. Следящие камеры снимали нас сбоку и со спины, крошечные фигурки с опаской двигались по экранам, не слишком охотно и не в лад повторяя наши движения. Я никогда не понимал, как работает система обеспечения безопасности. Как-то раз, в один присутственный день, двигаясь вместе с дорожкой и от нечего делать глядя по сторонам, я увидал с изумлением, как мой непосредственный начальник снимает с себя брюки. Я протер глаза, всмотрелся; вообразите мое положение! нехорошей формы зад, обтянутый прозрачным панталоном, во весь экран... и ничего кроме. К счастью, этот экран остался позади и сам собою вышел из виду, а на следующем начальник мой был совершенно одет и даже поворачивал уже к своему кабинету. Мне говорили, что экраны показывают разные временные ходы, так чтобы учесть все возможности, и в случае опасности нам быть начеку, и все же... впрочем, ничего, ничего, да и разговор не о том.
Системный администратор, как я уже докладывал выше, жил в одном коридоре, там, где лампы горят вполсилы и дорожки не едут, а только колеблются, как будто они нарисованы на воде. Добраться туда непросто, тем более, что системные администраторы всегда портят детекторы так, что те перестают пропускать людей, и только настойчиво требуют Пароля. Программистов на службе держат из суеверия: когда переезжают в другое здание, непременно забирают с собой в коробке парочку "на развод"; не все из них приживаются на новом месте, и уж отнюдь не всякий вырастает в системного администратора -- но тут, кажется, я снова отступаю от темы, да и вряд ли кто может об этом не знать.
Отыскать нужный коридор оказалось еще труднее, чем мы могли бы предполагать. Идти пешим ходом -- совсем не то, что двигаться по дорожкам, да и здание наше большое, в нем много неожиданных поворотов и перекрестков с путаными многорукими указателями. Мы, N. и я, совсем уж было отчаялись, как вдруг мимо нас пробежали пакеты, пискнули и там, впереди, были захвачены темнотой. Мы переглянулись снова. Отчего-то я не почувствовал радости, только мгновенную дрожь в коленях... зная, что нам не продвинуться дальше нескольких шагов, мы пошли осторожно. Здесь N. уже не выглядела такой уверенной: как я и думал, она до сих пор не имела дела с системными администраторами и вовсе не знала, с чего начать. Борясь с тяжелыми предчувствиями, всматривался я в серый, скрадывавший чьи-то формы, почти непроглядный мрак. И вот -- это ощущение не передается словами -- как бы презрительно минуя воздушную передачу, прямо внутри моей черепной коробки холодным металлом звякнул вопрос.
-- КАК ВАШЕ ИМЯ?
N. схватила меня за руку так неожиданно, что я едва не отшатнулся. "Не говорите ему правды!" -- отчаянно прошептала она.
-- КАК ВАШЕ ИМЯ? -- вновь прогремело в моем мозгу.
-- Агафон?.. -- предложил я наугад, растерянно вглядываясь в темноту.
Пауза, долгая, как во сне бегство от невидимого врага. И прогремело, проскрежетало, как что-то из далекого, не раз уже забытого прошлого -- жестяная банка?
-- СКАЖИТЕ ТАЙНОЕ СЛОВО.
Я улыбнулся и произнес то самое слово, которого N. так и не услышала от меня до сих пор; а ведь хотел, хотел и не мог решиться.
-- ТАКОГО ИМЕНИ НЕТ.
Я промолчал.
Когда мы возвращались, я (в глубине души считая, что нам повезло), спросил N. о причине ее странной просьбы. Она, кажется, смутилась. Прошла несколько шагов задумчиво, опустив голову, и едва не задела ногой пылевой очиститель. Ответила вопросом:
-- Вы знали Августа? Химика.
Химиками (ботаниками, математиками) у нас на службе называли бывших ученых.
-- Август М***с? -- переспросил я на всякий случай, ступая подальше влево от бегущей дорожки.
-- Да... наверное, он.
Я его знал. В мое время это был лысоватый, тощий, словно бы усохший от чего-то, крошечный человечек. Те, кто встречал его раньше меня, помнили его почти великаном. Был он, кажется, слегка не в своем уме: не мог усидеть за станком, то есть, не работал, а ходил по помещению эдаким голубиным шагом, вертя головою из стороны в сторону и рассуждая о реальности, окружающей нас. Говорил, что в каждом мозгу производятся одинаковые вещества галлюциногены, будто бы заставляющие нас воображать реальность (он называл ее "континуумом") по нескольким раздражителям. Еще говорил, что инструменты, чтобы обтачивать эту реальность -- жесткие структуры, которые садятся на нее, как вирусы, и подминают ее под себя -- не заключены в организме и не нужны ему вовсе, но свирепствуют в обществе, как болезнь. "Знаете ли вы, что такое язык? Не более, как набор готовых церемониальных клише," -- и пошла писать губерния. Подолгу распространялся о необходимости разрушить эти структуры, а до тех пор, пока это невозможно, предлагал вводить в мозг искусственный галлюциноген ("глюч"), который обеспечил бы свежую реальность, не зараженную болезнями навязшей ему на зубах коллективной. Впрочем, постепенно уменьшаясь в размерах, бросил читать лекции, видимо, оттого, что перестал замечать людей вокруг себя. "Одну только задачку нужно разрешить: как достать глючиков изнутри свеженького континуума?" -- повторял почти неразборчиво, отчаянно встряхивая лысеющей, словно бы выщипанной с маковки головой. Конечно, он был аддикт, взятый уже на заметку; в том, что он скоро исчезнет, никто и не сомневался.
-- Я работал с ним в оффисе на двадцать мест, -- уточнил я. -- Но это было давно, когда уничтожали только бумагу. А вы, -- теперь мы шли очень медленно, с трудом пробираясь между стеной и разогретыми спинами камер, -- вы, должно быть, знали его еще раньше?
-- Я... -- произнесла N. так тихо, что я едва мог расслышать, -- я любила его.
Оборотная сторона экрана была, оказывается, покрыта чем-то вроде радужного пластика. Она сильно нагрелась, на ней вздувались и лопались пузыри. Я почувствовал себя глупо; мне захотелось остановиться и обдумать престранные мои обстоятельства. Рука N., с тонкими острыми пальцами, чуть влажная и холодная, коснулась моей. Я мог бы задержать ее в ладонях, но вместо этого отчего-то полез в карман, вынул платок, повертел его в руках и отправил назад.
-- Он, -- продолжала N. с усилием, остановившись и не глядя на меня; я, впрочем, тоже стоял, -- кажется, он любил все необычное... Иногда он говорил о словах: что будто бы раньше слова были громкие и страшные, имели власть над временем и судьбой, то есть, не все, а некоторые слова. Но когда -- он говорил -- на карте не осталось пустых мест и все города стали похожи между собой, люди принялись за слова: на все, что было в них громкого, звучного, одни стали досадовать, другие принялись смеяться, а третьи -- повторять их на все лады, пока эти слова не распались на звуки, как шарики из трещотки. И слова потеряли свои значения -- страшные. И поначалу всем людям показалось это хорошо, только скучно, но вскоре значения, потерявшие свои имена... стали выползать под другими именами, и вовсе без имен, потому что -- он говорил -- так бывает всегда. И новые, безымянные, они были куда страшнее: над ними ни у кого не было власти...
N. всхлипнула. Я имел бестактность прервать ее:
-- Позвольте! Все это очень похоже на М***са, но какая же связь ..?
-- Он любил все необычное... -- голос N. дрожал, жалостно обрываясь на верхних нотах, -- он прошел все здание службы по линии мусорного контейнера, побывал на этажах... он показал мне одну удивительную комнату с зеркалом во всю стену... там мы встречались. А однажды он отправился в покои системного администратора; вы вряд ли можете это помнить, но тогда программисты не просто водились в зданиях -- у нас они работали, служили, и занимали целое крыло.
-- И что же? -- мне сделалось неуютно.
-- Его не было до самого обеда... когда он вернулся -- это был совсем другой человек. Сухой, как будто испуганный чем-то или совершенно занятый какой-то мыслью, набитый ею, как чучело -- мертвый внутри. Он почти и не поговорил со мной, обмолвился только, что системный администратор, узнав его имя и что-то еще, выбросил его в Оболочку.
-- Как?
-- Не могу вам сказать... тогда я не успела его расспросить, а на другой день у него испортилась память. Меня он не узнал вовсе, как и многих сослуживцев. Говорил им ужасные, невозможные вещи. Когда он обратился к начальнику: "хрюша", его со всеми принадлежностями перевели в другой отдел.
-- Хрюша?
-- Это с русского, "говорящая свинья"; что-то ласкательное. -- В глазах ее стояли слезы, она старалась не смотреть на меня.
Мы, N. и я, давно уже не трогались с места, а это означало, что нами вот-вот заинтересуется система охраны. Я глядел на нее, в голове моей вертелись обрывки маленьких мыслей: что визит к косметологу ею просрочен, и потому заметны уже крошечные прыщички на коже ее лица, что носовой платок -- душистый, женский, или просто платок, сейчас ей бы не помешал; что пообедать вместе очень неплохо, но можно бы и в другой день, а сегодня как-то уже чересчур сошлись обстоятельства... Вдруг -- скорее всего, это вышло случайно -- N., неловко взмахнув руками, отступила назад. Я хотел было ее поддержать, но она выпрямилась сама; тут я увидел, что она встала на дорожку. Я выкрикнул предупреждение, но опоздал: дорожка пришла в движение. Фигурка N., быстро уносимая по линии, подернулась рябью, как бы памятью об изображении какое-то время держалась в воздухе, вздрогнула мозаикой всех цветов и распалась, разнеслась блестками в разные стороны, как будто и не стояла живая передо мной.
Что было делать? В оффис мне не хотелось. Поразмыслив немного, я с осторожностью повернулся и пошел назад, в логово системного администратора, перешагивая Бог знает что такое: длинные, тонкие, вправо и влево протянутые провода. Конечно, на прежнем месте я и не думал его застать.
Я получил строгое предупреждение о том, чтобы рассказывать по порядку. Видит Бог, я стараюсь, но это так трудно! Вот хоть бы, разве я мог не упомянуть о предупреждении? Уже и нарушил порядок в смысле времени, а промолчав, повредил бы причинности. К тому же -- умолкаю, умолкаю, только заглушите, пожалуйста, это гуденье: оно напоминает мне о метро.
На чем я остановился? Кажется, на предательском движении бегущей дорожки, так иногда незаметном для глаз. А потом я и сам пошел, побрел назад без дороги, без ясной цели, да и грусть, вдруг охватившая меня всего разом, была без слов. И я не скрыл бы правды, если бы в быстро темнеющем коридоре меня настиг внезапный вопрос.
Я шел и шел, и весьма нескоро заметил, что зашел уже далеко, что вокруг меня свет помутнел и почти пропал, что очертания предметов по сторонам сделались недоступны для распознающей их памяти. Самый воздух передо мною густел, и шорохи, производимые мельчайшими пылинками, отдавались то там, то здесь, перескакивали, менялись местами, ползком пробирались вдоль стен -- словом, жили собственной жизнью. Возможно, я повернул не в том месте, где в прошлый раз: черный ход, задний ход, вот где я оказался. Как его описать вам? Я бы скорее взялся описывать красный вагон... Везде и во всем, говорят суеверы, есть свой особенный задний ход. Меня задело по голове что-то липкое. Я взмахнул руками, споткнулся о длинную шею неизвестного существа и с ужасом понял, что это шланг. Что будет со мной? Мысли, одна ужаснее другой, зашевелились в моей голове, но из самого сердца поднималось грозное предчувствие, что худшие мои догадки... нет -- что я едва ли смею надеяться на их справедливость. И тут я услышал приятный женский голос, кажется, окликавший меня!
На мгновение я подумал, что N. все же вернулась. Это была, конечно, самая нелепая идея: как бы она смогла меня разыскать? Да и голос был другой: грудной, полнозвучный, можно сказать, нескромный, какого не бывает у интеллигентных сотрудниц. Сам не знаю, почему он внушил мне такое доверие, желание полностью препоручить себя его компетенции. Мой страх перед темнотой и неясностью впереди исчез совершенно, и я пошел на зов, торопясь, как мог, сквозь толпу замерших на месте устройств неизвестного назначения. В одном месте зияла яма (как только я разглядел ее в темноте?). Я занес было ногу для прыжка, чтобы лихо перенестись на тот берег в виду у незнакомки, ожидавшей меня, как вдруг тот же голос позвал снизу. Там, по-видимому, было неглубоко. Я заглянул на дно, точнее, попытался всмотреться, чтобы понять, не нужна ли ей помощь, и как мне действовать в этом случае -- не прыгать же к ней в западню? Ничего не было видно. Я встал на колени, взялся за край ямы, наклонил голову вниз, и в ту же минуту сильные руки ухватили меня за воротник. Инстинктивно я попытался оторвать их от себя, но только скорее соскользнул от этого с небольшого обрыва прямо в пасть заднего хода -- тут же я вспомнил, что во всех рассказах о нем задний ход разверзает пасть. Впрочем, должен сказать, что пасть эта была самый обыкновенный пролом в полу этажа.
Я зажмурил глаза от внезапного света и почувствовал, что руки отпустили меня. Позднее я видел, что света было вовсе не много: так, густеющие сумерки летом, перед тем, как падает ночь. Но слишком уж кромешная тьма окружала меня, когда я шел через задний ход.
Женщина, стоявшая передо мной, была, пожалуй, не в моем вкусе, хотя и нельзя сказать, чтобы нехороша. В женщинах я люблю штрихи, недоконченное; я люблю в них слабость, которая имеет надо мной силу, и я люблю, чтобы этой силы не знали они, а так, краем чувства догадывались бы о ней с удивлением и страхом в душе. В этой тоже была загадка, но только темная, тяжелая для ума, как смертная сума русского богатыря Святогора. Женщина была красивая, и все же мне не хотелось сходить с коня с тем, чтобы, подобно могучему герою, сразу же увязнуть по колена в окаменевших наслоениях почты. Но она заговорила, а так как я чувствовал себя одиноко и голос ее по-прежнему располагал, то я и остался ее послушать. Смотреть на нее тоже было приятно.
-- Мне кажется, я должна была встретить вас здесь, -- произнесла она без улыбки, с обезоруживающей серьезностью.
А ведь она сама с недамскою решимостию только что стянула меня вниз; про себя я усмехнулся и почел за благо оставить это без замечания.
-- Вы верите в судьбу? -- продолжала она, отчего-то пряча глаза. Какого цвета были ее глаза? Этого я не мог разглядеть.
-- Ну... какая же может быть судьба, -- я вдруг почувствовал себя легко, как если бы не стоял без дороги на неизвестном этаже служебного здания, -- теперь, простите мне дурной каламбур, в наше-то время? Вы здесь, в дебрях службы, могли и не заметить, -- я принял шутливо-наставительный тон, -- а у нас в миру наступила Вечность. Времени нет!
Она посмотрела на меня так, как если бы я сказал что-нибудь обидное. Помолчав, поправила:
-- Там, где есть предопределенность, времени нет. То, что должно совершиться, уже совершилось. Это и есть вечность. Но бывает, что замороженное мгновение длится вечно; это вовсе другое.
И замолчала опять. Я сказал:
-- А вот откуда вы здесь, если мне можно полюбопытствовать? -- и добавил, -- зачем я здесь, допустим, я знаю, на то причины особые. А вы, одна, посреди этого (я огляделся окрест) неприятного хлама?
Подействовало. В ее глазах как бы зажегся огонек, она шагнула ко мне и спросила:
-- А какая у вас причина?
Что-то я ей отвечал, почти правду. Она задумалась.
-- Мне кажется, я могу вам помочь.
-- Помогите! -- я улыбнулся.
Она сказала:
-- Кликните ваш портфель.
Собравшись уже повиноваться, я вдруг вспомнил и растерялся. Но тут же нашелся:
-- В том-то и дело! Я, видите ли, свой портфель забыл дома. Сколько ни кликай, он к нам с вами не придет!
Она посмотрела на меня с нескрываемым ужасом. После паузы проговорила:
-- Все верно. Пожалуйста, идите за мной.
-- Конечно, но куда же? -- весело спросил я. -- И зачем, если не секрет?
Она, уже направившись было в темноту, обернулась ко мне:
-- Затем, что... я вас люблю.
Я и пошел.
Чтобы не отставать, я не слишком глядел по сторонам, тем более, что в том почти что и не было проку. Я думал, что в темноте она подождет меня и обернется, чтобы дать себя поцеловать, но этого не случилось. Видимо, она считала нужным спешить, и отчасти я был этому рад. Но лишь отчасти.
Меж тем мы с нею вышли в довольно широкий коридор, и мне показался он населенным. Конечно, я здесь никогда не бывал, и был даже уверен, что офисов с людьми в ближайшей окрестности нет. Но есть что-то такое -- не звук, а тень звука или его след -- то, что извещает нас о присутствии. Вот этим здесь дышали самые стены. Я мог бы сказать, что меня посетило видение, но только это было не видение, а весьма яркое впечатление -- многих шагающих пар, подобных нам с моей прелестною незнакомкой. В самом деле, как ее звали? Я даже не спросил ее имени; мое откуда-то она должна была знать. На всякий случай, более для того, чтобы превозмочь робость, неизменно терзавшую меня наедине с женщиной, я положил руку к ней на плечо. И немедленно о том пожалел.
Она обернулась в один момент, и тут я увидел, что она страшно преобразилась. Из-под нижней губы ее показались клыки, на лбу закурчавился жесткий звериный волос. Ее глаза... какие стали ее глаза! Мертвой хваткой вцепилась она в мою неосторожную руку, едва успевшую соскользнуть со сверкающей чешуи ее медных плеч. Я хотел крикнуть, но голос мне не повиновался.
-- Хочешь ли знать, кто я? -- пророкотало чудовище. Оледенев от ужаса, я ждал продолжения, но оно вдруг остановилось как бы в замешательстве. В эту короткую паузу мне даже показалось, будто оно принялось бормотать себе под нос -- но то был уж не нос, а клюв, изогнутый, острый, верно, способный причинить жертве невыносимую боль. "Где моя память? Раньше памяти было больше," -- дико гримасничая, выговаривало чудище почти про себя, но даже тихий его рык вызывал во всех моих членах ужасную дрожь. За спиной его начали распрямляться уродливые, карикатурно беспомощные крылья, как у порванной бабочки -- но такие громадные, кажется, одним своим разворотом способные разбить самый крепкий череп у человека. Натянутые на кривых костях, словно пиратские паруса, как бы склеенные из клочков разноцветной бумаги...
-- Почтовый демон! -- вырвалось у меня вдруг. Страшная догадка лишила меня последних сил, и я прислонился к стене, чтобы не рухнуть на пол у ног кошмарного существа.
Время было, я мог бы в этом поклясться. Оно стучало в висках, и я один должен был пропускать сквозь себя его застоялый турбулентный поток.
-- Почтовый демон?.. -- провыла тварь, раскатным тремоло на "вый" выражая чудовищное сомнение. -- Пожалуй, нет. Нет, я... я Сборщица Мусора!
Дикий хохот исказил и без того ужасные черты ее лица, и когти демона-чистильщика сомкнулись сзади на моем платье. Они подняли меня, как котенка за шкирку, и чудовищно-внимательные глаза -- навыкате, с тарелку величиной и вовсе без век -- почти прислонились к моим глазам. Не знаю, отчего я не лишился чувств.
-- Ты здесь без портфеля, -- продолжало чудовище то похрюкивая, то вдруг хрипя, -- похожий на вирус, маленький и гнусный на вид. Я могла бы тебя сожрать. Но ты помог мне, поддержал мою память, и я не сожру тебя. Я всего лишь выкину тебя вон, -- безо всякого видимого усилия могучую волосатую руку, державшую меня, оно занесло назад для броска. -- Нам многое открыто, -- чудовище как будто задумалось снова, держа меня на весу, -- но тебе я скажу только то, что тебе повезло. Портфель мог бы и не спасти тебя здесь, но задержись ты в доме, не миновал бы встречи с своей судьбой.
Воздух засвистел вокруг меня, навалился глыбой, едва не обрывая в ухе барабанные перепонки. Я успел только подумать -- неужто моя судьба ужаснее, чем все то, что я до сих пор испытал? Но что может быть хуже, чем демон Сборщица Мусора? Ответа на этот вопрос я не мог и вовсе не хотел знать.
Секретарь Бюро Диверсий С Той Стороны накладывает запрет на папку приложений: обнаружилось, что при попытке добавить в нее документ прежнее ее содержимое исчезает. Таким образом пропало важное исследование Желтого Ученого Дома, подтверждающее, что Библия, Упанишады и другие крупные мифологические антологии древности суть остатки ископаемых научно-фантастических бестселлеров. Установлено, что старинный индийский трактат "Махабхарата" (лесная книга) принадлежит перу Ника Перумова -- древнеарийского автора, предательски убитого бандой так называемых эльфов, хоббитов, троллей и гоблинов во время загородной прогулки. Скорее всего, "Библия" и "Упанишады" также его творения. Не установлено, что послужило причиной исчезновения содержимого папки: неизвестный закон природы или диверсия с той стороны. С девяти часов пополуночи сего дня в папке приложений запрещается хранить более одного документа.
Придя в себя, я помнил все, что случилось со мной, когда я произвел затяжку. Мыслей было две. Во-первых -- вокруг все те же стены, и я лежу на диване-лежанке, значит, не пригрезилось. Во-вторых -- кто был человек с синеватым лицом? настоящий преступник, теперь это ясно; аддикт? Неужто и меня решили сделать аддиктом? Я слыхал о такой практике, кажется, в анекдотах, но никогда не думал об этом всерьез. На этом месте мысли пошли вразброд, я почувствовал, что у меня затекла спина, и захотел повернуться лицом к стене. Исполнив сие не без труда, я чуть не вскрикнул: стена оказалась зеркальная! И мое отражение в ней -- самое удручающее: картинный идиот, жующий губами, с опухшей щекой и плотоядным страхом в круглых глазах.
Я невольно закрыл глаза, но тут же снова раскрыл их в надежде хоть немного развеять первое впечатление. Отражение мое нимало этому не способствовало. Хуже того: оно высунуло изо рта мясистый язык и попыталось сперва дотянуться им до своего носа, а когда убедилось, что языку не хватает гибкости, подалось вперед и, кажется, захотело лизнуть меня. Невзирая на боль в спине, я отстранился и только тогда понял, что зеркала нет, а на соседней лежанке предается нехитрым развлечениям один из моих сокамерников.
-- Который час? -- спросил я его, не придумав ничего лучшего (наше положение вдруг представилось мне чрезвычайно неловким).
-- Гля, двгля, мкгля, -- с готовностью отвечал сосед.
Я отвернулся.
Позже, когда принесли еду, и я, преодолевая ужас, отвечал на расспросы вчерашнего собеседника с синим лицом -- да оно вовсе и не было синим, только слегка синеватым оттого, что свет на него падал особенным образом -- я узнал, в свою очередь, с кем меня так близко разместила судьба. Оказалось, это был один из специалистов по историческим извлечениям. Сейчас, когда потоки времени рвутся в стороны и потому требуют жесточайшего контроля со стороны властей, есть программы, которые составляют прошлое, но без участия человека они не могут работать. Дело это ответственное, так что ученые, которым его поручают, автоматически становятся чиновниками Безопасности. Об этом я знал, конечно, но -- ведь моя работа уничтожать документы, а вот архивы, которые используют служители прошлого, на удивление тщательно сохраняются. Точнее, их, конечно, уничтожают. Но перед тем делают из них извлечения по совершенно особым правилам, и это будто бы нужно в конечном счете для поддержания официальной версии, для обеспечения ее изнанки, если так можно сказать. Признаюсь, я не слишком хорошо понял объяснения синеватого моего товарища, а главное, так и не услыхал от него, что же привело разум несчастного ученого в столь плачевное состояние. Намеков моих собеседник не хотел уловить, а когда я спросил его прямо -- как будто весьма удивился:
-- Что вы говорите! Наш сосед в прекрасной форме! Рассудком, во всяком случае, он владеет не хуже, чем вы и я.
Как бы в подтверждение этой мысли он вынул из складок своей престранной одежды маленький черный мяч, несколько раз подбросил его на узкой ладони и кинул в сторону соседа, после завтрака лежавшего смирно и пускавшего на подбородок себе слюну. Тот с радостным визгом подскочил на лежанке, взмахнул руками и поймал мяч ртом, зажавши его между своих крупных белых зубов. Зубы у него были, конечно, ненастоящие.
Я не знал, что и думать, тем более, что два других наших сокамерника загалдели хором, зачмокали губами, защелкали зубами, как будто от зависти. Собеседник мой подчеркнуто пренебрег этими сигналами и продолжал:
-- Вы, вероятно, слышали об эпидемиях? Я знаю, что об этом печатают хроники новостей.
-- Да, -- с облегчением подхватил я, -- это, конечно, выдумки? Я хочу сказать, это как-то связано с переделом прошлого?
Человек с синеватым лицом всплеснул руками:
-- Да что же это вы такое все время спрашиваете?
-- Я только хотел узнать... -- вдруг я почувствовал волосатую руку у себя на горле, оледенел от ужаса, поднял к ней пальцы... и ухватил пустоту. Никакой руки не было. Нервы, как видно.
-- С переделом прошлого, -- наставительно продолжал мой собеседник, -- связано у нас только одно настоящее.
Повисло до того напряженное молчание, что я был уверен: теперь уж ничего мне об эпидемиях не узнать. Кончики пальцев моих зудели от любопытства. Вдруг опасный сосед, чье здравомыслие так хвалил мне только что человек с синеватым лицом, принялся проявлять чрезвычайную активность на своей лежанке: заерзал на ней, завозился как-то, виляя бедрами, зашлепал губами, как будто стараясь изобразить горячечный поцелуй... он приподнялся скачком и схватил меня, а предательские руки других двух безумцев подтолкнули меня к нему сзади. Я совсем не привык к такому обращению и не знал, что мне предпринять. Итак, я совершенно растерялся; сосед же, крепко прижав меня к своей груди, измочив мою щеку слюнями и сопя мне в самое ухо, проговорил шепотом:
-- Не слушайте синего. Он псих. Двинутый.
Я хотел отвечать, но он, повернув мое лицо к себе, закрыл мне рот поцелуем.
С негодованием терпел я бессовестно развратные, вызывающе нелепые его ласки, мысленно ища выхода из несчастного моего положения и недоумевая, отчего синеватый мой собеседник, очевидно, пользующийся здесь определенным влиянием, не освободит меня от этой затянувшейся и безобразной неловкости. В конце концов я сумел изогнуть шею и -- как ни удерживал меня от этого гадкими трясущимися пальцами мой похотливый сосед -- поглядеть с укором в ту сторону, откуда по праву круговой поруки, связывающему приличных людей в общей беде, ждал избавления.
Человек с синеватым лицом сидел на своей лежанке с видом, выражающим отсутствие всякой мысли. Он разинул рот, лишь наполовину оснащенный грязными желтыми зубами. Язык его частию выпал наружу, и с него уже стекала слюна. Зато рядом с ним в стене отворилась дверь, и в сверкающем белизной проеме стояла женщина. На ней был аккуратный, даже какой-то солидный, черный костюм, не слишком длинный, не слишком короткий, слегка в обтяжку.
Приятно улыбаясь, она произнесла нечто вполне отвечавшее моим мыслям. У нее было очень интересное лицо, немного похожее на...
-- Воротник! Шубейка шубейка, вот и пришла, -- мокро прошипел мне в ухо наглый маньяк, перед тем так назойливо тормошивший меня. Не желая, чтобы он и впредь компрометировал меня в глазах женщины, которая уже казалась мне весьма привлекательной, я резко поднялся на диване и оттолкнул его так сильно, что он со стоном завалился куда-то в щель. Раздался хруст, и я вздохнул с облегчением.
Женщина снова что-то сказала, приглашая меня идти с ней, и должен признаться, что я посмотрел на нее как на свою избавительницу. Я поправил свою одежду, с презрением оглядел прежних соседей, кажется, раз и навсегда утративших дар речи, а с ним и человеческое подобие. Женщина ждала меня в дверях, слегка искривив губы в смущенной -- да, смущенной улыбке. Безо всякого страха вошел я вслед за ней в зеркальные коридоры; она принялась рассказывать о себе -- конечно же, я знал ее и раньше. Потом-то мысли об N. понемногу вытеснили ее образ из моей памяти, вместе с другими сотрудницами, но могу сказать твердо, что мне всегда нравилось ее лицо с длинным остреньким носиком, с милым, никогда не чрезмерным, лукавством узких полуприкрытых глаз, фигурка ее -- не модная, не блистательная какая-нибудь заемная из рекламных проспектов, но обыкновенная женская, ее голос, ее манера судить обо всем как будто и уверенно, но всегда так, что мы с ней оба про себя знали: она нуждается во мне, и целиком от моей поддержки зависит, будет ли остроумным ее суждение или нет. Это ведь как раз из тех вещей, которые бывает приятно знать и с улыбкой не проговаривать вслух. Я даже припомнил, что в нее был влюблен мой приятель, а впрочем...
С ней было легко оформлять все пропуска. Мы шли, соприкасаясь плечами, иногда я брал ее за руку; глупые барьеры воспитания, утомительно многолетних привычек куда-то исчезли, я был рад и горд своей храбростью. Я знал, что совершил ошибку тогда, в здании службы, когда N. подбила меня сойти с движущейся дорожки. И ведь это я чуть не пропал тогда в лапах демона, а ее как раз дорожкой вынесло в полную безопасность! Что же, нам нелегко бывает отказать женщине, особенно когда мы чувствуем себя одиноко; сейчас я, конечно, так бы не поступил. Сейчас, теперь, мне было спокойно, то есть, все мы, конечно, крутимся под надзором Судьбы как белка в ее колесе, но если правильно смотреть на вещи, это только придает уверенности в себе; вот я и был уверен. Я шел по этой лестнице вверх, со мной была милая мне женщина, и я видел, что этот плавный подъем не сменится спуском -- теперь уже нет. И лишь изредка, все реже и реже, как бы эхом к мимолетной памяти, ступени едва заметно дрожали у меня под ногой.
Дальше -- найду ли я в себе силы, чтобы рассказать вам, что было дальше, после долгих дней счастливых блужданий по коридорам? Все складывалось как нельзя лучше; подруга моя -- она служила не здесь, ее только вызвали, чтобы отдежурить курьером для нужд Безопасности -- была довольна не менее моего и, кажется, совсем не спешила домой. Я заметил на ее лице следы беспокойства и спросил ее о причинах; оказалось, она хотела переехать ко мне после того, как мне выдадут новый портфель и, как бывало встарь, разделить со мной мои дни. Я был рад, несмотря на то, что -- а что там, это ведь все пустое, я в самом деле был рад и вовсе не хочу знать, что за осадок зашевелился при этих ее словах на самом дне моей глупой души. И вот, когда все формальности были соблюдены, и все упиралось в один лишь окаянный портфель... ах, что мне стоило не забыть его дома в тот злополучный день!
Новый портфель был затея моей милой попутчицы. Вместе с ним мы без лишних слов получали бы новое местожительство, а прежний мой дом, вероятно, давно уже выше крыши затопленный почтой, просто снес бы городской очиститель, вот и не было бы нужды наводить порядок в безразличных теперь нам обоим развалинах прожитой жизни. Я был согласен с тем, что это, может быть, лучший выход, но меня мучила известная робость при мысли о Чиновнике с Зеркалом. Ведь -- пожалуйста, называйте это государственной тайной, если вам нравится, но про себя-то я убежден, что вы ее знаете -- способность к смерти в свое время все мы, граждане с портфелями, теряли именно так. Это называлось регистрацией, и, как ни старайся, это из памяти не стирается до конца. Я знал, что утратившим портфели все еще выдаются новые в том же ведомстве, но никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь этой услугой воспользовался. Почему? Я не мог ответить себе: безотчетный страх гнал все мысли.
Но вы знаете, что есть чувство, которое помогает нам преодолевать робость, да ведь и совестно перед женщиной, в конце-то концов. Так я и очутился в приемной Портфельной Инстанции, и она -- в черном кожаном кресле рядом со мной, перебирающая складки своей юбки нервными пальцами... Я накрыл ее руку своей. Ее остренький носик наморщился, то ли от сдерживаемого смеха, то ли от какой-то неясной досады, она вздрогнула, но не отняла руки. Так мы сидели вдвоем.
В приемной, помимо нас, были и другие просители. Едва ли их дело было об новом портфеле; так, вымарать какие архивы из личного прошлого, перевыправить тот или иной документ. Им, кажется, тоже было не по себе -- но все же не так, как мне. Обрывки разговоров долетали до моих ушей; нервные смешки, от которых хотелось чихнуть, такой у них был щекочущий тембр.
-- В Самаре... вы с утра смотрели в ящик?.. свирепствует эволюция!
-- Вы, значит, верите версии седьмого канала?
(По седьмому каналу передавали официальную позицию; сквозь туман оторопи, милосердно осаждавший в моей душе ураганы страшных предчувствий, я все-таки удивился: подобные сомнения, и где -- в приемной Инстанции! Впрочем, заметил, что речь идет об эпидемии из моей хроники, и стал слушать внимательнее.)
-- Но как же, ведь и ученые эксперты говорят то же самое! Помните, из книг о животных: врожденный профессионализм! Ласточка, вы знаете ласточку? это птица, она строит гнезда из глины! Но одна птица не научается от другой, все навыки записаны в кодах ее организма!
-- Допустим. Я, как и вы, слышал об этом по ящику. Но вашей, как ее, ласточке, есть все-таки выгода от ее навыков. Гнездо -- ее дом, она строит его, чтобы в нем жить.
-- Да нет же...
-- Позвольте, позвольте, именно так. Вы, верно, раньше переключили канал.
Раздались и другие голоса в поддержку последнего.
-- Ну вот, видите? видите? А какая польза в том, чтобы над лужей из воды возводить мост? Или перекладывать бумаги из одной стопки в другую, как поступает большинство больных? Как это способствует выживанию?
Здесь между мнениями наступил сильный разброд, и я, находясь в смятении моих чувств, оказался более не в силах следить за беседой. Запомнил, впрочем, одно забавное высказывание, вызвавшее у меня ощущение дежавю: кто-то из просителей настаивал на том, что вирусы эволюции (так теперь называлась пресловутая эпидемия) суть способ существования информации, и это она, под жалобы гибнущих архивов, находит способы раз и навсегда запечатлеть себя в памяти. Будто бы, то же в свое время случилось и с ласточками, причем такой поворот событий и вынудил их худо-бедно выживать в гнездах из глины. Не могу судить, я никогда в жизни не видал птиц.
Раздался -- боже мой. Раздался... как мне сказать об этом? Раздался звук. Все, кажется, подскочили на своих сиденьях, но встал я один. Немного помедлив, я сделал шаг вперед, ощутил на сгибе локтя руку моей женщины; крошечное сердце во мне подскочило от радости. Она не оставила меня! Хотя, как же она могла бы меня оставить? Так вот, под руку, по-старинке, мы вошли в окончательный кабинет.
Это был большой зал, и в нем стоял стол. За столом сидел человек в черной косынке. Под ладонями он скрывал какой-то шар, прижимая его к гладкой поверхности стола. Я понял, что это -- Зеркало. Может быть, я даже вспомнил об этом. Ручка подруги моей после прощального пожатия соскользнула с моего локтя прочь; я посмотрел в ее сторону и увидел, что она стоит у стены. Из-под прикрытых век она послала мне взгляд. Я повернул голову и стал смотреть на Чиновника. Раньше, чем мои колени совершенно ослабли, я ощутил сильный удар светом в глаза.
С правой стороны позвал голос. С левой стороны громкое эхо уже отвечало ему. Глаза женщины, моей матери, в них боль и ужас какой-то смерти. Еще глаза, появляясь из ниоткуда, множатся и заполняют собой все небо. Трещина раскалывает небо, трещина раскалывает землю, трещина раскалывает море, на котором стоит земля. Трещина проходит мое сердце насквозь.
Приходя в себя -- но нет, я так и не пришел в себя с тех пор. Лучше сказать, когда зрение мое начало проясняться, я увидел странную вещь.
Я твердо стоял на ногах, а Чиновник с Зеркалом покинул свое место за столом и поздравлял меня с завершением процедуры. Он пожимал мне руку -- старинный обычай, при котором ладонь крепко обхватывает ладонь. На шее у меня в буквальном смысле слова висела милая моя спутница, закрыв глаза и остреньким носом уткнувшись в одно из ушей моих. У наших ног уже попискивал, шевеля красивыми усиками, совсем не похожий на прежний -- новый портфель.
Я мог бы быть счастлив; не я ли так долго предвкушал в своих мечтах эту минуту? Но как-то выходило так, что я глядел на все это со стороны. Я даже видел, как на моей спине топорщится новый пиджак. И вот, я уже повернулся, чтобы уйти из кабинета, оставаясь при том в объятиях моей любезной... и сам с собою встретился взглядом. Какое странное было выражение у моих глаз! Мертвое, я мог бы сказать, если бы точно знал, что это слово значит. Воистину, мой взгляд, исправно отражая пол, потолок и стены, и даже какие-то, вероятно, грядущие приятности времяпрепровождения, не выражал ничего. Но не это испугало меня. Едва встретившись с собой взглядом, я подмигнул сам себе -- жестоко, глумливо. И, уверенной рукой подхватив подружку, вышел из кабинета! А... а я? Я остался! Я был брошен! И кем?
Какая низость. Какое предательство.
Ну да, конечно, ведь я был заключен в этом крошечном шаре, и никуда выйти не мог. А то бы я им показал. Утверждаю со всей ответственностью: они узнали бы у меня. На сем позвольте завершить текущий раздел.
Что осталось? Осталось немного, да и то вы почти целиком знаете лучше меня. С зеркальной стороны лабиринт Безопасности все так же монотонен и скучен, в нем нет ничего, что могло бы развлечь делопроизводителя, к которому рано или поздно попадут все наши отчеты. А я был один, блуждания мои были бесцельны, отчаяние черно и бесповоротно, и ни одна мельчайшая надежда не залетала в те коридоры, чтобы надоедать мне и жужжать у меня под ухом. О чем я думал? Я предавался воспоминаниям. Вернее сказать, я шел вперед без единой сознательной мысли, но куски моей памяти жили собственной жизнью и, соприкасаясь между собой острыми краями, причиняли мне боль. Если бы я мог, я подал бы прошение о полной и основательной чистке -- но кабинеты Безопасности, увы, взяли за правило не отражаться в своих зеркалах.
Вы полагаете, вероятно, что ваш агент, раскосый китаец, женщина, заманила меня?
Ничуть не бывало. Против женщин у меня выработался прочный иммунитет, да и не в том я был состоянии духа, чтобы всерьез поддаться чарам ваших не на добро тренированных красавиц. Я только хотел свернуть влево, для разнообразия (до тех пор в своих блужданиях я руководствовался правилом правого поворота). К тому же, мне было интересно проверить, правда ли, что китайские женщины, во-первых, существуют в природе, и во-вторых, что они оборотни (то есть по желанию звероморфны). Это последнее обстоятельство подтвердилось и вызвало у меня известную брезгливость -- я и раньше видал зверей два или три раза, но не знал их так близко, и не подозревал, что они будят в нас это чувство.
Фольклорный момент был ближе к тому, чтобы подцепить меня на крючок. Седой китаец, называвший себя отцом агента, тот, что жил в лысоватой хижине на западной окраине вашей деревни, рассказал мне, что время у них, как песок, утекает по кругу, и они научились метить его посещениями извне. Дочь его большую часть суток была лисой, да и сам он, похоже, был старый лис -- но живой; все у него упиралось в различие между животными живыми и мертвыми. Я не слишком хорошо его понимал, так как на вопросы мои он обыкновенно отвечал поучительными историями: по одной выходило, что юноша должен слушаться старших, по другой -- что подземные духи повадками могут напоминать собаку, но отнюдь не являются собакой, и их следует искать под землей. Так вот, среди прочего, он рассказал мне о юноше, который выходил каждый день на рассвете из своей бедной хижины и шел собирать хворост. Однажды юная девушка в сопровождении служанки показалась у него на пути и смутила его беспричинным и громким смехом. Являясь ему после этого случая почти ежедневно, она оказывала ему различные знаки внимания, давая понять, что если в нем проснулось чувство к ней, то оно не останется без ответа. В конце концов он решился и, оставив свою работу, принялся преследовать ее на меже. Но она вдруг исчезла, а когда юноша, огорченный неудачей, вернулся туда, откуда начал погоню, обнаружилось, что у него кто-то украл весь хворост. Это самая обычная история из жизни китайской деревни; как правило, она кончается тем, что кто-нибудь из старших крестьян, запасшись топором, подкарауливает девушек и обрубает у одной из них лисий хвост. Но с тем юношей случилось иначе: его обидчица умерла, где-то на стороне наевшись лисьего яду, и с тех пор, куда бы он ни шел, на его пути лежал труп лисы. В конце концов он подобрал его, и в тот же день ему привалило большое наследство (когда в деревне кто-нибудь умирает, его имущество разделяют между собой родственники, оставшиеся в живых). С тех пор он всегда был очень богат, когда умер -- трудно сказать, но известно, что деревенские собаки чурались исходившего от него запаха мертвечины, а люди по-разному: кто вовсе не замечал этого, кто замечал, но терпел, а кто не желал терпеть.
По таким-то историям, разъяснил мне старик, и отмеряют время в китайской деревне. Каждый год в песочном кругу имеет свою историю; когда я вышел из зеркального лабиринта, поселяне как раз отмечали Год Мертвой Лисы.
Так и вышло, что я изъявил желание остаться здесь, когда меня спросили об этом. Рисовая настойка -- меня насмешили уверениями, будто она дарит бессмертие -- наглядные образы текущего времени... ну и немного других побочных причин. Я не стал бы этого делать, конечно, если бы знал, что слово может иметь такую силу -- видите ли, у нас давно не придают чрезмерного значения словам. В конце концов, как ни старайся -- то, что ей нужно знать, Безопасность поймет и без слов. А ненужное сотрется в ближайшую чистку. И сейчас я стараюсь быть с вами откровенным, тружусь для этого, напрягаю все мускулы в буквальном смысле слова, и все-таки ничего вам не могу обещать. Мы не привыкли говорить правду, для чего правда? что она значит? привыкли только надеяться: правдами и неправдами, версиями событий, как-нибудь пронесет.
Вы считаете меня агентом с "нашей" стороны, из Вечного Государства (или Страны Мертвых, если уголовный жаргон вам кажется предпочтительней). Но я клянусь вам, что о самом существовании "вашей" стороны до сих пор ничего не знал. Разве слыхал анекдоты. Вы говорите, что "наши" прячут от вас секреты бессмертия, что издержки вечной жизни падают на ваши плечи, как тень, но это тяжелый груз... что сказать? сам я об этом секрете знаю не больше, чем о том, отчего новости можно увидеть в ящике. Для нас это деталь быта, а там уж вы как хотите. Я лично думаю, что не будь этих дурных затей с агентами, не будь жалкого немного, простите, пафоса борьбы в ваших хрониках, было бы бессмертие и у вас. В конце концов, если это и впрямь достижение науки, отчего вы не додумались до него сами? Вздор, будто бессмертные переманивают ваших ученых: все ученые у нас давно переквалифицировались, они совсем не нужны. Но это только мое мнение, неумно было бы с вашей стороны приписывать его Безопасности. Я и сам, между прочим, если подумать, немало от нее пострадал.
Я знаю, что вы хотите со мною делать. Какой-нибудь ритуал... думаю, вы не брезгуете и каннибализмом... я должен умереть. Что же, я готов. Представьте, я помню, как в раннем детстве предчувствовал что-нибудь в этом роде. Глупая ошибка, но не бояться же вас, дурачков. Только не говорите, что вы хотите отправить меня назад... я... а впрочем? но нет, без портфеля, лишенный всех документов, что я могу? Да, нет, не знаю, я ничего не знаю, поступайте уж как хотите. Но ради бога, если хоть что-нибудь у вас есть святого, заглушите вы это гудение: оно напоминает мне о метро.
Март - июль 2001 г.