[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]
Below are 25 friends' journal entries, after skipping by the 750 most recent ones.
| Friday, August 1st, 2003 | ||
dedushka
|
2:14a | текущее Я что-то хотел сегодня написать еще. Что-то несомненно важное, но уже не помню. Это не маразм, это просто усталость. |
rlxa
|
1:03p | партия помидорок Будь патриотом своего народа - Ешь продукты с родного огорода |
ezh
|
9:55a | Человеку, у которого есть совесть, можно простить очень многое. |
goering
|
9:55a | |
goering
|
9:49a | немного ностальгирую по службе в Luftwaffe давно это было в прошлой жызни |
rlxa
|
12:31p | спина вперед zoom |
ezhinka
|
8:32a | маленькие радости Ксения (год и 10) изучает буквы. Завидев букву "о" на упаковке салфеток, потом еще одну, и еще, - радостно восклицает: "О! О! О! О! О!". Как Леонид Ильич в анекдоте про Олимпиаду и пять колец. |
mr_chicken
|
1:00a | Where's mr_not_so_hard_to_find_chicken  |
| Thursday, July 31st, 2003 | ||
reiko_reiko
|
11:38p | http://www.thejapanesepage.com/grammar.htm они вынудят меня учить японский. в группе прибавилось мальчиков (теперь у нас целых 5 самураев!), и наблюдается очень значительное оживление в коммуникациях. весь щебет естесссно на японском, я изнываю от любопытства, хочется приобщиться к коллективу. пойду записываться в ru_japan и канючить чтоб посоветовали учебник online. |
| rms1 | 11:04p | О грехе сергианства (несколько нервно) Не следует думать, что грех сергианства был когда-то и нас не касается. Именно что наша сегодняшняя Русская Православная Церковь во всех ответвлениях заражена этим грехом. Вот католики выступают против легализации браков педерастов. А что же наша церковь молчит по этому вопросу, впрямую касаюшемуся танства Брака? Вот власть взялась за олигархов. Что же молчит церковь, не разьяснит святость заповеди не укради? Вот это и есть сергианство сегодня де мы будем махать кадилами, а что там за оградой нас не касается. Сами-де разберуться. Зато вот если мы будем правильно махать, то попадём в Рай. А ведь сергианство грех-то смертный пораженная им Церковь именно что погибнет (и уже видим это). Если наши клирики всех ответвлений Русской Православной Церкви не найдут в себе силы среди сегодняшнего разора, учиненого комиссарскими внуками, стать центром обьединения русских сил, если будут по-прежнему вслед за митр. Сергием говорить что успехи олгархической власти и наши успехи, не поддержат и не возглавят очистительное движение народа то вот это и есть смертный грех сергианства. Сегодня, здесь и сейчас. И уничтожится ложная сергианская Церковь и олигархи в пыльных мерсах промчатся молча над тобой. |
| Friday, August 1st, 2003 | ||
evva
|
6:42a | над бездной Зацени же, начальник, глубину моих нравственных страданий: Как культивировать махамудру в неблагопрятных условиях А ты говоришь - левой ногой. Жопой, милый, только жопой, иначе никак. |
| haneymoney | 6:48a | с позачерашнего дня ни фига не спала исчо. Аркан говорит, что у меня глаза вытекут. Я сначала сопротивлялась, а потом поняла, прав он. Ужо вытекают. Только что в семь утра приехала домой. Ща почту гляну - и спать!!! |
| Thursday, July 31st, 2003 | ||
ilich
|
9:21p | Shkola В нашем городе пару дней назад наконец-то открылась школа для сексуальных меньшинств. Дело, конечно, нужное. В мире много всего, чему следует учиться, а не отлынивать там и всё такое. Но есть и недоработки. В сегодняшнем Дэйли Ньюс журналист вполне резонно интересуется, дескать, а сколько в школе должно быть отхожих мест -- два или всё-таки три? Ведь занятия будут посещать и трансвеститы, которым тоже надо это самое. Сексистский вопросик, с подъёбочкой, но ведь если задуматься, так и вправду непонятно. Current Mood: curious |
oboguev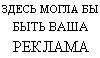
|
6:19p | |
oboguev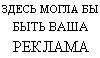
|
6:16p | когда правда жизни сталкивается с прозою жизни, образуется правда прозы это когда Паша Ангелина, поперев трактор, лихо им пашет; или проза правды когда та же Паша Ангелина, попёртая трактором, матюкаясь, его чинит. безусловно, слова ФАКЕЛ и УЮТ глаголы! Я бы не рискнул остановиться в гостинице с вывеской ЗДЕСЬ УЮТ!. FUCKЕЛ я такие гостиницы РТУТЬ очень редкий глагол. Совр.: что делают? - ртут; устар.: что делають? - ртуть. (Пример: Что за волны, что за муть? Пескари сазана ртуть.) есть возвратная частица ся (себя). А почему нет возвратной частицы мя ( меня)? Потому что это непедагогично: [...] Это не возвратная, это развратная частица! * * * дальше - больше, но совсем уже для Юдика Шермана и Лотмана; семиотика, однако |
oboguev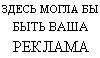
|
6:15p | Черепаха растит своего детёныша лишь размышлениями. Она откладывает яйца на суше и думает о них, пребывая в воде (Бхагават гита, как она есть) |
oboguev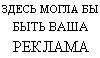
|
6:14p | Самое большое млекопитающее на планете это кит. Больше кита может быть только другой кит. Значит, самое большое млекопитающее на планете это другой кит. (логический факт) Тонущего кита последним покидает Иона. (сакральный факт) |
dedushka
|
9:07p | читая ленту Сергей Палыч Обогуев дает оторваться. (Читать.)
Это нужно внимательно изучить нашим иереям (а не нудеть про "покаяния" и "мучеников"). Иначе мужички напьются перед смертью и придут к иереям с дрекольем за ответом: по што ты нам столько времени мозги компостировал? И тогда может наступить "истинное раскаяние". И здесь тоже Обогуев. Про пиранью. http://www.livejournal.com/users/oboguev/408942.html?mode=reply |
oboguev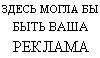
|
5:57p | Как ни удивительно, но алтайские народности теленгиты и телеуты сложились задолго до появления телевидения. (как ни удивительный факт) |
oboguev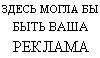
|
5:50p | - Поднимая этот тост, я хочу выпить за.. ну, за... короче, я хочу выпить!
(факт на троих) |
oboguev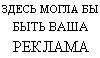
|
5:50p | - Чему равна единица измерения частоты собственных колебаний? - Выпить - не выпить? / сек.
|
oboguev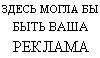
|
5:48p | Два бомжеватого вида мужика в автобусе: - Что бы ты сделал, если бы узнал, что сдохнешь через час? - Я бы напился! - А я бы менту дал по морде. Прикинь, меня в отделение, а меня уже всё того тю-тю! Бабулька рядом: - Нет, чтобы просто помолиться! Оба искренне удивлены: - За кого?!.
|
oboguev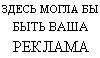
|
5:46p | Со дня основания Бухты Нагаево жизнь там текла своим чередом, в неспешных своих водоворотах образуя свежие топографические наименования. Некий фельдъегерь небольшого чину имел приказ доставить Алексе императорский дар за изрядную службу закордонную рыбку пиранью. посыльный царев дерзко имел почуять на отшибе империи вольность, отчего сделался премного пьян и посему с окраины безымянного озера в самые что ни на есть его недры изволил поскользнуться, чем загубил императорский дар нагаевскому начальнику закордонную рыбку родом пиранья, заключённую в хрустальный шар, голландскими мастерами работанный для того, чтобы кто несведущий естественных наук не возымел намерения закордонную рыбку пошшупать, поелику та пиранья имеет свойство всяким существом кровеносным откушивать (из доклада русскому географическому обществу Окольная Расея) Шар хрустальный был разбит, рыбка закордонная ушла в озеро и тех, кто на озеро то с той поры ходил купаться или порты стирать, нагаевцы не досчитывались. Стала та рыбка полноправной хозяйкой озера. - Чьё оно, - спросит прохожий, - озеро, что в нём не купаются и портки не стирают? - Рыбкино же, - ответят. Стало быть, озеро назвалось Рыбкино. |
oboguev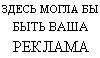
|
5:28p | Симпозиум (лат., от гр. posis "питьё", "напиток", "питие") - "попойка (совместная)." "Попойки" ("Symposiaka") Плутарха в советское время благочинно переводились как "Застольные беседы". Симпозиарх, симпосиарх (буквально "правитель пирушки") - тамада. http://www.liter.net/gloss/index2.html |
| Friday, August 1st, 2003 | ||
aculeata
|
3:10a | Подкидыш Мне лет шесть, а сестре девять. В Иркутске, на ул. Лермонтова, дом 283-а, четвертый этаж, обстановка комнаты помнится смутно (больше похоже на другой дом). Кажется, играем в карты втроем. Почетное место -- рядом с мамой, она полулежит на боку, так что по обе стороны не получится. Стараемся друг друга вытеснить. У мамы, как всегда в таких случаях, надменно безразличное выражение лица. Мама красавица. Ни знакомые дамы отца, ни ее подружки не идут с ней ни в какое сравнение. Подружек надо любить, но ужасно, когда идешь с мамой, а она останавливается поболтать с ними на улице. Дамы лучше, их встречаешь реже, и не пристают. Мы с сестрой выясняем отношения, у кого больше прав сидеть рядом с мамой. Сестра белобрысая, тоненькая. Она неизменно выигрывает спор. "Мы же договорились! В прошлый раз ты, а сейчас я!" -- я удивляюсь больше, чем обижаюсь (хотя так происходит всегда), а она улыбается. Она придумала, что я неродная дочь, меня взяли из роддома, и объясняет мне это в подробностях (шутя). Бог знает почему, я решаю принять это всерьез. Уточняю детали и соглашаюсь, страшно расстроенная (про себя не верю, но игра уже не понарошку). Сестра тоже увлекается: клюнуло. Мама с досадой говорит, что мы глупые, и прекращает игру. Я благородно заявляю о своем намерении уйти из дома и не обременять чужую семью. Мама с сестрой одинаково пожимают плечами: в серьезность моих намерений они не верят, безучастием думают охладить мою решимость. И совершенно зря. Это была последняя проверка, после которой сомнений (почти) не осталось. Я ухожу, поколебавшись перед курточкой (чужая, но ведь я все равно в чужой одежде), надеваю курточку -- месяц примерно март -- и иду по лестнице вниз. Мне неплохо, в общем, хотя и грустно. Очертания предметов резкие, острые. Все еще свежей, чем обычно (потом окажется, что в детстве всегда все свежее). Для меня это новое ощущение: душа нараспашку. Незнакомый холодный-холоднющий, но и веселый сквозняк. Я иду, наступаю на лужи, под тонким льдом выдавливаются хорошие водные пузыри. Встречаю Вовку-близнеца (есть еще Сашка). Болтаем немного. Рассказываю ему, что ушла из дома. Сперва он не верит. Потом, разобравшись, соглашается, что тут ничего не попишешь: на моем месте они бы с Сашкой тоже сбежали. Предлагает жить у него (спросит у папы). Моего соображения хватает понять, что папа меня не впустит, пока не поговорит с моими приемными родителями. "Да ладно, -- говорю, -- не надо." Вопрос исчерпан. Болтаем дальше, идем гулять в дальних дворах: нам обычно не разрешают одним, но у меня теперь нет проблем, а Вовка врет, что ему можно. В какой-то момент Вовка спохватывается: "А что ты будешь есть?" -- и я почему-то отвечаю, что хлеб со сметаной. Есть не хочется. Тут начинает темнеть, Вовку ждут домой, он обещает завтра что-то интересное вынести. "А где ты будешь спать?" -- это и мне интересно. Сперва я иду в лес (наверное, это не настоящая тайга, хотя она близко от дома), ищу на собачьей площадке какой-то снаряд, похожий на дом с косой крышей -- по крайней мере, в игре это был дом. Пытаюсь там устроиться. Но холодно, солнце зашло, ветер продувает вход, выход, и уже неважные щели. Вылезаю оттуда, беру с собой сухих листьев -- нет, наверное, все-таки поздняя осень -- и иду к дому. Я решаю, что надо спать под балконом первого этажа: ветер дует не вдоль дома, а под дом с другой стороны, и под балконами должно быть тише. Во дворе моя бывшая сестра аккуратно прочесывает площадь. Я в сумерках издалека вижу, что она недовольна. Ее послали меня искать. Я останавливаюсь в стороне, она не видит меня. У меня очень хорошее зрение, а она носит очки. Вот еще одна причина, почему мы не сестры! То, что мой отец видит все буквы во всех таблицах, и мельче, хоть бы и в сумерках (а потом такое же зрение будет у ее сына), я предпочитаю не вспоминать. В конце концов она смотрит на часы (наверное, ей сказали вернуться в семь), с беспокойством осматривается еще раз и уходит в дом. Я несу свои листья, раскладываю их под балконом и бегу за следующей порцией. В какой-то из очередных походов меня останавливают старшие девочки. Я с воодушевлением делюсь с ними моей новостью: я оказалась найденышем, ушла из дома, живу теперь сама по себе, а спать буду под балконом. Девочки делают вид, что им это страшно интересно. "Пойдем, -- говорят, -- в подъезд, а то мы замерзли; там дорасскажешь." Мне почти нечего рассказывать, но внимание старших девочек мне очень дорого, да и я сама страшно вымерзла -- и я иду с ними в подъезд. Одна из них (Женя) остается меня сторожить, другая бежит вверх по лестницам сказать, что меня нашли. Я начинаю позорно рыдать и вырываться (предательство!) -- но есть чувство, что так теплей. Толстая Женя смеется и легко меня удерживает. Спускается сестра. Меня водворяют домой. Ругают, но не слишком. Серьезный разговор с родителями. Подключается отец (редкий случай). Доходчиво объясняют мне, что я, конечно, их дочка. Точно ли они знают, что не ошиблись в роддоме? Рассказывают, почему в роддоме никак не могли ошибиться. Мама меня обнимает и говорит, что я ведь совсем домашняя, очень ласковая девочка: разве мне неясно было, что я не смогу жить на улице? Я прижимаюсь и не знаю, как ей сказать: она так думает просто потому, что я очень ее люблю, а если все страшная ошибка и мне этого нельзя, то ведь дома люди домашние, а на улице уличные. Я тоже не знаю, что для нее, кроме настоящего времени, есть что-то еще, а для меня нет. В то же время я еще помню веселый сквозняк, но мама гораздо лучше. А вчера мне приснился сон. Будто бы родители отца, бабушка с дедушкой, очень любимые люди, стоят в лесу (непонятно, живы они или умерли), и говорят, что я все-таки должна знать правду: я не их внучка. В знак этого ими написано письмо, в нем подробности. Вниз ведет овраг, к реке, кажется. Неподалеку мама сидит на камне. Я подхожу к ней, сажусь у ее ног, беру ее за руки. Руки молодые, но на них шелушится кожа. Мама сама молодая. Мама красавица. Я спрашиваю ее -- это только по линии отца? Очень жалко, что так вышло, но ведь ей-то я дочка? Мама смотрит вниз и говорит размеренно, как всегда о важном: нет, мол, там "произошла подмена". Что-то объясняет. Я встаю, ухожу. Думаю, что дальше жить нельзя. Вспоминаю о сходстве моего темперамента с отцовским (он любит отмечать такие моменты), и думаю, что это случается, должно случаться: как наведенное поле или что-то горизонтально переданное воспитанием. Параллельно в голове возникают картинки: действительно существующие фотографии нас с мамой, когда я была маленькая. Взрослые говорили, что мы (тогда были) очень похожи -- но взрослые всегда врут, считается, что родителям приятно слышать такие вещи, а сама я в этом никогда не разбиралась. Вспоминаю, что, в самом деле, у меня оказался отрицательный резус-фактор, а ни у кого в семье его нет. Думаю о том, что я много писала, в частности, в дневнике, о семейной истории не без гордости, и сразу понимаю, что это сродни гордости гражданина-неофита новым гражданством: такие и становятся лютыми, бессмысленными патриотами. Какой-то частью себя человек "знает", вот и причина выверту натуры; другие о фамильных делах пишут меньше. Вспоминаю, наконец, вот эту историю с сестрой Иркой и думаю, что надо бы успеть еще записать в дневнике, можно попробовать сделать рассказ с другими героями, с хорошей концовкой-обманкой: интонационно конец, а потом пара фраз о том, что героиня и правда оказалась подкидыш, и как это выяснилось. Просыпаюсь с теми же мыслями. Встаю, иду искать письмо и понимаю, что оно осталось во сне. Что от такого открытия (которое уже во второй раз теперь под сомнением) может вот так ехать крыша -- совершенно неочевидно. Пока писала, непроизвольно выключился свет только в моей комнате, хотела включить лампу у компьютера -- зашипела и отказала. Потом включилась. Потом опять выключилась. Меня достала эта иллюминация. Думала сменить лампочки. Дернула веревочку выключателя -- включился большой свет, а заодно с ним и малая лампа. Жду, что будет. Включилась кошка на соседнем балконе; орет. |