>Кто-то что-то >то вякает про неоригинальность Андреева.
К сожалению, опять Андреев. Какая уж тут оригинальность.
Последней на моей памяти тов. Андреева упрекала в скучнейшей неоригинальности Юля Генюк. Это было давно и в группе soc.culture.russian; на фоне прочих Юлины претензии звучали не только вяло, но и цензурно до неприличия.
Впрочем, что было, то потерялось в памяти, да и было дерьмо. Вернемся к настоящему.
Дан Дорфман называет себя старым и часто жалуется на годы. Это, на мой взгляд, не должно быть помехой: И.В.Сталин в пятьдесят лет и старше писал на чужом языке не только учебники, но и предисловия к Повареной Книге. Вот она, истинная оригинальность.
>Но ведь большинство еще за гранью оригинальности или >неоригинальности.
Да --- вся мало-мальски приличная литература. Покойная литература, ибо ее больше нет. Настал постмодернизм и прочее воинствующее невежество.
>А у неоригинального Андреева есть хотя бы уровень >элементарного профессионализма. И он знает о чем пишет >и что пишет.
Храни нас бог от элементарного профессионализма. Хотя знание грамматики, наверное, не помешало бы ни Дорфману, ни Андрееву. С другой стороны, многие люди вообще не признают запятых.
Что до Кузьмина с мягким знаком, точнее, до одностороннего диалога с ним Дана Дорфмана --- читать это и дико, и смешно. Типичная американская ментальность --- за РАЗРЕШЕННУЮ свободу бороться с пеной у рта. Ваша "сетература" цветет и, извиняюсь, пахнет; кто же ее может "не пущать", в наше-то время? И куда?
А хорошо бы, действительно, убивать до смерти борцов за право публичной профанации.
>Я конечно понимаю, >что Россия - родина слонов и у советских и совков - >собственная гордость. И им не обязательно знать, что в >некультурной Америке женщина, которая писала >гениальные стихи, родилась на пятьдесят лет раньше >Марины Ивановны, первого русского гения из политически >корректной прослойки.
Какое отношение к культурной или некультурной Америке может иметь человек, живший в абсолютном затворничестве --- в последние годы Эмили Дикинсон еду подавали через окошечко! Никакого общения с внешним миром, никакой обратной связи; а ведь культура --- явление социальное.
И в чем состоит политическая корректность прослойки в случае Марины Цветаевой (дамы благородного происхождения, блестящего образования, никогда по своей воле не сотрудничавшей с так называемой интеллигенцией) --- в супружестве с агентом ЧК?
>И про то, что Эмили всю жизнь >провела только с одной идеей одной любовью и под одной >крышей. После того как почти ребенком полюбила человека >старше ее намного, и больше никого уже любить не хотела >до самой смерти. И видеть тоже. И стихов своих нигде не >публиковала и даже не пыталась. Это не только великий >поэт, это еще и великий характер. Характер именно тех, >кто приплыл на Мейфлауэре и, несмотря ни на что, >выжил в суровых краях и создал эту страну.
Выше --- нежные всхлипы американца по национальности. Инстинктивная попытка подменить настоящий, ворованый воздух, дезодорантом популярной марки.
Эмили Дикинсон, дорогой и совсем еще не старый Дан Дорфман, была сумасшедшая. Клинически. Разговаривать с ней было невозможно: помести Вас с нею в одну комнату минут на пять, вы бы в двери колотить начали. И совсем иначе отзывались бы о ней в сетевой публицистике --- разве что у вас оказался бы великий характер.
>От редактора: Андреев - знаток средневековой японской >литературы и было бы естественным именно так взглянуть >на прочитанное.
Человека, непосредственно знакомого с японской традицией, легко отличить по поведению. Если не на улице, при случайной встрече, то в разговоре. Даже если он/она просто практикует рэй-ки, или там карате. Приобретается определенная дисциплина, склонность к психологическим упражнениям. Это полезно.
Что до Андреева, то он классический невежда, с редкой способностью к профанации. Он изьясняется, как Смердяков, или как лакей Грибоедова Сашка Грибов. "Если девушки метрессы,/ Мы беремся за умы, / Если девушки тигрессы,/ Будем тиграми и мы."
Крошка Цахес, администрирующий сетературу, собирающий краденые, а то и поддельные, похвалы в свою копилочку --- вот что такое Андреев. Говорят, у него мания величия. Да что же, пускай он и болен --- все равно не поможет. Одного диагноза мало.
>Еще два слова про >оригинальность. В русской поэзии всего пять оригинальных >поэтов. Это Пушкин, Фет, Цветаева, Хлебников и Маяковский.
Да, а еще Ленин и Тредиаковский. Потому что Ленин, хоть поэтом не был, но жизнь свою он прожил, как поэт. Так про него сказал поэт Тредиаковский. Ученик Ленина. И Ломоносова.
О чем вы толкуете, уважаемый Дан Дорфман? Что вы понимаете под оригинальностью? Надо думать, это словцо взросло на обильных удобрениях сетературы? Но тогда --- не назвать ли ваше мичуринское чудо как-нибудь иначе, оригинальности ради?
Когда символисты разыскали основательно забытого Тютчева (которого и Пушкин-то не очень умел читать --- время еще не приспело), вдруг оказалось, что дорожка, на которую они набрели будто бы по подсказке французов, открыта еще пятьдесят лет тому. Впрочем, какая тут оригинальность. Оригинальность --- дрянь. Целый мир появился (чтобы затем, как водится, рассыпаться в пыль --- с приходом бессмысленных подражателей, в том числе и себе самим).
Да и это неважно. Многие знают, что вещь, подхваченная на одном языке, совершенно иначе переводится на другой --- и не переводится, а рождается заново. Потому что в настоящем мире обьекты самодостаточны --- а с другой стороны, обьект не отличается от своего воплощения. Если, конечно, хорошее воплощение. И всякая вещь рождается от другой, или других.
Оригинальны же --- ну, я не знаю, наверное, Алла Пугачева и ее внучатый супруг. Это все-таки коммерческое понятие, сродни копирайту.
>Остальные - неоригинальные. До Лермонтова был Байрон. >До моего любимого Гумилева - был Киплинг и т.д.
И снова --- что вы хотите сказать этой не слишком осмысленной фразой?
Лермонтов, как говорили в мое время студенты, косил под русского Байрона, переводил его, как мог, и даже умер не в срок, как положено. Обыватель вправе назвать его неоригинальным: марка фирмы позаимствована поэтом вполне сознательно.
Что же до Гумилева, воспитанного на научной фантастике Жюль Верна, дышавшего ницшеанскими веяниями в русской культуре --- он похож на Киплинга культом дикой экзотики, личного мужества, физической силы и ловкости, спокойным чувством вселенской ответственности, идущим от сознания духовного превосходства. Но что же здесь может указывать на преемственность? Ровным счетом ничего --- да ее, конечно, и не было.
Ранний Гумилев много подражает Брюсову, "мэтру", что и естественно. Освободившись от тяжеловесного влияния этой важной фигуры, Гумилев становится абсолютно самодостаточен: стихи его удивительны, ни на что не похожи, и чем дальше, тем более. Гиппиус с Мережковским, уже солидные и всячески признанные, уже осведомленные обо всем, что установилось, как-то образовалось, сделалось общим местом, не смогли его проглотить --- и чуть только не выставили за дверь.
Гумилев --- основатель акмеизма, стихотворной школы, решительно никак не связанной с творчеством Киплинга.
Его работу при большевиках либеральные невежды, вероятно, поспешили бы назвать "службой полудиким угрюмым пременам", или еще как-нибудь. Но только литературные кружки Гумилева посещали тогда одни хорошенькие барышни --- как правило, из весьма приличной семьи.
Мещане, занятые литературным делом --- зрелище жалкое и унизительное.
>Очень старый и противный Дан Дорфман. >Бостон, Масс.
Для официоза от литературы (читай: от искусства вообще) почти
сто лет как употребляется иное название --- профессионализм.
Это понятие у гр. Кузьмина справедливо противопоставляется
(см. ниже) содержанию пресловутых сетевых журналов.
Литературные сокровища, разбросанные по наводящим ужас узлам
Повсеместно Протянутой Паутины (© Май Иваныч Мухин, начало
90-х), в среднем представляют собою весьма поучительную
картину. В электронных террариумах копошатся допотопные
чудища, пусть мелковатые, зато ядовито окрашенные. Наблюдателя,
спугнувшего невзначай что-нибудь из рептилий, с ног до головы
окатят зловонной жидкостью из особых желез. К тому же, эти
удивительные существа живут стаями. На шип потревоженного
сородича обыкновенно сползается целый взвод --- и ну себе
пресмыкаться!
Иной раз там встречаются так называемые "профессиональные"
экземпляры --- тот же
Кузьмин, у Андреева в
лягушатнике.
На пестром фоне тропической фауны они выглядят бледными,
потрепаными и линялыми. И верно, что делать литературным
гомосексуалистам поневоле, годами упражнявшимся в учебной
аллитерации, бок о бок со строками "Огради меня, моя кухня,/
от культуры, которая тухнет"?..
(*) Так современная любовная
лирика меркнет, теряется в однородном тумане рядом с известной
Поэмой
"Он оскорбил
Тебя дерзкой рукой" бессмертного Гоги
Котляревского.
Итак, на непредвзятый взгляд естествоиспытателя, труды
soi-disant "профессионалов", запутавшиеся в Паутине, на
общем фоне заметно проигрывают. Но существуют --- и в
этом Кузьмин, безусловно, прав --- другие, быть может, не
менее плодотворные точки зрения.
В отрывке, приведенном выше, есть своя правда --- особенно
в отношении постмодернистского мышления. Два слова о
восстановлении и/или воскрешении литературных форм.
Графоман --- и хороший писатель --- никогда не придумает
нового по своей воле. Дурное владение языком --- и случайный,
неконтролируемый порыв --- вот что привносит в текст
(понимаемый широко) элемент свежести. Это явление,
совершенно чуждое, и даже враждебное профессионализму.
Возможности компьютера в том виде, в каком они обыкновенно
используются адептами "сетературы", совершенно безнадежны
с точки зрения чаемого неофилами обновления инструментария
погрязших в постмодернизме искусств.
Миллионы обезьян,
получивших доступ к компьютерной сети, изощряются в попытках
сыграть Лунную Сонату --- а вовсе не что-нибудь новое для
души. Рабской ментальности так запросто не изменишь.
Обезьяны скованы Системой, их привлекают уже существующие
идеалы, запетые и заигранные. Лунную Сонату исполняюют
детские ночные горшки в зажиточных семьях; компьютер ---
не менее продвинутый аппарат.
Нетривиальные формы серьезного искусства, якобы разработанные
в Интернете --- чистый обман, рекламная фикция. Ничего этого
нет. Жалкая попытка устроить на сети Борхесовские Сады,
или хотя бы развилки О.Генри, в виде гипертекста оборачиваются
на поверку дешевой графоманией наискучнейшего толка.
Надежду нужно искать в другом: в возможности
структурировать безумный поток информации. Постмодерн
шаманит, как Кашпировский, призывая этот поток на наши
головы, заклиная его смести все на своем пути. Это вовсе
не суицидальные устремления: вульгарному постмодернизму
наплевать на культуру. На ней не заработаешь.
Но такая классификация, при которой структура гипертекста
становится великолепным, действенным инструментом, не может
и не должна искусственно ограничиваться литературой. Здание
новой иерархии строится на информации всякого свойства;
иначе сама идея теряет смысл.
"Игра в бисер" Гессе --- напоминание о том, что к этой
деятельности ни под каким видом нельзя подпускать
выхолащивающих все и вся "профессионалов". Хотите вырастить
боевого коня, а не мерина --- держитесь подальше от обученных
коновалов.
Напротив, упражнения младшекурсников не заслуживают внимания,
потому что они, как правило, перегружены амбициями, местными
подробностями и написаны с расчетом на непосредственный эффект.
Обстановка на лекциях не располагает к анонимной отрешенности.
К тому же, люди с бескорыстным воображением не ходят на скучные
лекции.
К слову, аккуратный подход мог бы создать на основе "Сада"
чисто литературное явление (только зачем?). А. Крученых лет
восемьдесят назад издал у подборку сочинений маленьких
детей --- но честных, писаных без учета литературных норм,
вне контроля взрослой среды. По большей части это были
страшные сказки с абсурдным сюжетом, много крови и всяческих
зверств. И получилась гениальная книга. Это ни с чем сравнить
невозможно, разве что с романом Амоса Тотуолы.
Толковый собиратель альбомов провинциальной барышни
(школьных анкет, дембельских альбомов, жалобных книг,
документов провинциального судопроизводства etc.) оказал
бы культуре несравненно большую услугу, нежели издатель
гг. Львовского, Кузьмина и иже с ними. Подобная коллекция,
выложенная на сеть и разумно организованная, была бы
великолепным художественным произведением. Но, конечно,
не литературным --- это совершенно особый жанр.
Империя маргиналов
Теперь --- о статье Дмитрия Кузьмина, с которой (или с
которым), собственно, и боролся Дан Дорфман.
% Дмитрий Кузьмин
% КОМПЬЮТЕР В ОЖИДАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ
% Разговор о влиянии всеобщей компьютеризации на судьбу
% литературы, начатый в "ЛГ" 12 ноября Максимом Борисовым и Михаилом
% Визелем, кажется сегодня исключительно актуальным. Вот и в
% московском литературном салоне "Крымский клуб" этому вопросу был
% посвящен "круглый стол" 29 октября - с участием как писателей, так и
% компьютерщиков (а до этого, весной, аналогичные слушания прошли в
% Эссе-клубе журнала "Новая Юность"). Все время поднимают тему и
% Сетевые журналы (не только литературные). При этом говорится много
% верного и интересного, но не покидает ощущение некоей
% несфокусированности взгляда, из-за которой отдельные разумные
% замечания не дают единой картины.
Литературная газета, с ее микроскопически постперестроечным
тиражом, едва ли приобрела новых читателей на Интернете.
В застойные годы по ее страницам гулял слегка подслащенный
либерализмом официоз, а сейчас --- либеральный официоз,
иногда разбавленный политически благонадежным постмодернизмом.
% ВЛИЯНИЕ компьютера (и в частности Интернета) на литературу
% складывается из двух основных линий - внутренней по отношению к
% литературе и внешней: возникновение новых (или воскресение хорошо
% забытых) литературных форм и перемены в области социального и
% культурного функционирования литературы. Неразличение внутренних
% процессов искусства и культурных процессов, затрагивающих искусство,
% - характерный ход постмодернистского мышления. Мы же, как некогда
% памятный любителям отечественного постмодерна персонаж Аркадия
% Бартова, повторим в очередной раз сакраментальное: "Но разница все
% же есть".
% Описанная Визелем литературная игра "Сад расходящихся хокку" -
% это все-таки игра, а не литература. И в качестве игры она, как
% замечает и сам Визель, не нова. Образцом, на который
% ориентировались создатели "Сада", послужила, конечно, не "Плеяда"
% и не "Бродячая собака", а собственно японская традиция. Но
% японские средневековые поэтические турниры, как и коллективное
% складывание "реньга" - "цепных строф", проходили не по ведомству
% игры, а по ведомству литературы - при всем различии между
% европейским и японским пониманием искусства: и участники, и
% слушатели неизменно имели в виду возникающее единство - метатекст,
% напряженную драматургию отношений между частями и целым.
% Участники "Сада" имеют в виду как максимум диалог с ближайшими
% соседями по цепочке. Именно поэтому "Сад" остается игрой, не
% отличающейся принципиально от сражений в буриме, искони
% практикуемых младшекурсниками на скучных лекциях. Единственное
% "но": у этих младшекурсников появились возможность и желание
% сообщить о своих забавах urbi et orbi.
Разумеется, "Сад расходящихся хокку" --- это игра; и как
беспомощно, как бездарно выглядела бы реализация той же идеи
полуграмотными профессионалами от серьезной литературы!
Игра с живым словом, с веселой смертью исчезающей информации,
карнавальная атмосфера зарождающегося фольклора, апелляция
к божественной природе генератора случайных чисел, заложенного
в двоичной системе нейронов! Воистину, и полезно, и поучительно.
% В этом и заключается то новое, что приносит в культуру
% Интернет: пользуясь метафорой, употребленной на упомянутом
% "круглом столе" поэтом Станиславом Львовским, - "альбом
% провинциальной барышни начинают читать по первой программе
% телевидения".
При всей беспомощности уподобления Интернета телевидению
(обыватель никогда не научится отличать рекламу пива от
соответствующей статьи Энциклопедического словаря...) ---
какая обнадеживающая картина! В Москве у меня какое-то
время был телевизор; по одному из каналов вечерами
передавали программу "Знак качества". Это, конечно, самая
интересная передача. Там сумасшедшие граждане в строгом
костюме, заплатив за пять минут эфира, доказывают теорему
Ферма, другие сумасшедшие граждане, или гражданки, наоборот,
под музыку раздеваются донага и вращают острым задом
удивительно быстро --- тоже это не бесплатно им обошлось.
Третьи исполняют песни собственного сочинения. Вот если
бы так по всем каналам. А Березовского запретить.
% Собственно, Николай Байтов еще два года назад (как помнится,
% в литературной газете "Цирк "Олимп") прогнозировал изменение
% культурного сознания под воздействием Интернета: теперь каждый
% участник Сети может сформировать и предложить всему
% человечеству свой состав классики, свою иерархию культурных
% величин. Это и происходит. Большинство русских литературных
% сайтов устроено следующим образом: несколько стихотворений
% Иосифа Бродского (варианты: Дмитрия Пригова, Бахыта Кенжеева -
% словом, фигур в той или иной степени "культовых") в окружении
% более или менее беспомощных сочинений друзей и приятелей
% держателя сайта, который (держатель, а не сайт) сознательно
% или бессознательно пытается тем самым статусно уравнять
% литературу профессиональную с дилетантизмом и графоманией.
Справедливо --- но культовым фигурам не страшна профанация,
им нечего бояться дилетантов и графоманов. Профессиональные
подражатели в этом смысле куда опаснее. Имя Бродского скоро
станет ругательством: под него пишут так много, так похоже
и так бесцветно, что его собственные стихи не хочется брать
в руки. Самородок, сделавшийся разменной монетой, интересен
разве с исторической точки зрения.
% Наиболее крупные и наиболее радикально настроенные
% фигуры литературного Интернета подводят под такую стратегию
% идеологическую основу. Так, помянутый Михаилом Визелем один
% из ведущих русских электронных журналов zhurnal.ru помещает
% в литературном разделе наряду с произведениями Александра
% Левина или Александры Петровой что-нибудь, например, в таком
% духе:
% Ну скажи мне, какого тебе рожна?
% Час назад завершилась твоя война,
% И теперь в поднебесье поет струна:
% Хочешь - сдохни, а хочешь - допей до дна!
Вот явление, забавное с психологической точки зрения. В чем
контраст между
Александрой Петровой и
Линор Горалик, автором
приведенного выше четверостишия? Обе поэтессы до того
несвежи, что сам дьявол в преисподней не разберет, которая
хуже --- да пожалуй, стошнит и прогонит обеих, Киплинговскому
Томлинсону вослед.
Неопытный наблюдатель, вероятно, отдал бы предпочтение Александре Петровой, из соображений лексико-грамматических. Спору нет, словарный запас Линор Горалик не сделал бы чести пожилой продавщице в овощной лавке --- но Линор еще молода. Что же до словоупотребления Александры Петровой, то оно на деле имеет весьма узкие границы: это --- рыхлые, бугристые лексические напластования, оставленные И.Бродским в проклятое наследство своим эпигонам. То же, между прочим, относится и к синтаксису.
Ты ходил по улицам Ветрограда,
а они, по законам Альберти,
выводили только к линейной смерти.
Ты же мечтал о спирали.
[...]
Шиповниковый пух и зерна,
несмелая аллея, плеши дерна,
мох, стелящийся по стволу,
дитя, прилипшее к стеклу -
смотреть как дождь темнит колючий гравий,
за следом, еле видным, грабель.
У иных
сначала лирическое "ты" мечтает о спирали (!) в нарочно
выделенной строке, а потом еще детей к стеклам приклеивают.
Все так --- однако же, есть разница, пускай ее на первый взгляд не видать. Александра Петрова, вероятно, владеет дипломом, как Лариса Тараканова, Николай Доризо и другие ее коллеги. Во всяком случае, на ней стоит печать разрешенности, establishment не возражает. А у Линор Горалик такой печати покамест нет.
Редактор журнала.ру (см.ниже), воспитанник известного пансиона в Тарту, исповедует соответственный подход к тексту --- в лучших традициях структурной лингвистики. Он печатает и то, и другое, по праву пренебрегая чисто внешним различием. Придет время, поставят печать и Линор Горалик; тогда ее имя --- а значит, и труды --- не станут больше резать глаза "профессионалам". Наоборот.
От всего этого тоже есть определенная польза. Парщиков и Еременко, популярные в прошлом сезоне, чьи стихи вызывали тогда острую рвотную реакцию, теперь предстают в совершенно ином свете --- милыми примерами просвещенного поэтического благообразия. Блуждая в Паутине, в минуты слабости начинаешь испытывать ностальгию по только что, на наших глазах, минувшей эпохе. Да покоится она с миром, и пускай нам простит.
% При этом редактор журнала Евгений Горный посвящает % специальную статью вопросу о том, что "выражением самой % природы Киберпространства, основанного на идее личной свободы % и терпимости к чужим мнениям", является стратегия ухода от % всяческих разделений, отказ от вычленения в культурном % пространстве мэйнстрима и маргинальных зон - во имя ЦЕЛОГО, % в котором "все вещи обретают свое место и раскрывают свой % смысл".Редактор журнала.ру Евгений Горный выражает мнение, чуждое природе так называемого Киберпространства. Прекраснодушие (оно же "терпимость к чужим мнениям") вяло и непроизводительно; оно не служит ничьей цели и ничьего существования не оправдывает. Приобретая агрессивность на уровне цепкой, вирусоподобной идеологии постмодернизма, оно губит самые плодотворные начинания. Напротив, в основе полезных вещей обыкновенно лежит чисто прикладная причина.
Интернет возникал, как сеть каналов для быстрого и бесплатного распространения порнографии. В то время как этот жанр в известной мере уже абсорбировался мэйнстримом (например, в виде изданий типа "Плейбоя" и соответствующих телевизионных программ), по электронным каналам путешествовали материалы большей частью маргинального толка. Личной свободы, конечно, было сколько угодно. Прочее, наносное, пришло позднее.
Структура киберпространства сродни мифу о "wormholes", подробно разработанному в научной фантастике. Суть метода в том, что космический пользователь временно открывает в произвольном месте пространства черную дыру, по желанию --- и проваливается в нее со своим звездолетом в любом направлении, на миллионы световых лет вперед. Таким способом можно колонизировать какую-нибудь, еще пустую, вселенную --- как иногда говорят, создать параллельный мир.
Отработанные продукты цивилизации не обязательно уничтожать: можно свезти их в один из бессчетных миров и оставить там мертвым складом; вероятно, при складах пригодятся сторожа и иная обслуга. Там же можно организовать благотворительный приют для неофобов, любителей Э.Рязанова, поклонников Пазолини и прочих обывателей. Это и будет мэйнстрим. А что же, ведь места много --- о чем жалеть.
Киберпространство создается, первооткрывается и заселяется --- одиночками, маргиналами. Это единственная творческая, движущая сила там, где теряет смысл массовое производство. Мэйнстрим течет только по гладким, непорожистым, заранее проложенным руслам. Вроде канализации.
% Будучи также горячим сторонником идеи целостности культурного (и % литературного) пространства, я не могу не отметить, что целостность % не означает ни нерасчлененности, ни неиерархичности - напротив, % целостность в культуре всегда сопряжена со структурной сложностью, с % динамическим равновесием. Потому речь не о том, чтобы отказать % массовой литературе или дилетантским сочинениям в праве на % существование - у них есть свои чрезвычайно важные функции в % культуре, в обществе, функции, которые серьезное искусство сегодня % нести не в состоянии; более того, беспрецедентные достижения % искусства ХХ века не в последнюю очередь связаны с тем, что ряд % социальных и культурных функций был с него снят массовой литературой % и дилетантским творчеством. Самая страшная угроза целостности - это % неразличение. Человек - это ЦЕЛОЕ, но клеткам головного мозга нечего % делать в желудочном тракте.Оно бы и верно, ведь насильственное Неразличение --- главный инструмент постмодернизма, тянущего мир в бесовское болото, разноцветный Армагеддон. Растопить, растаскать по кускам жесткие структуры, красивые построения прошлого, а гигантов, которые не поддаются --- утопить в жидких обрывках уже бессмысленной информации. Лысый Яхве, политрук торгашей, нанял бездельников ловить души, и поит сынка-вампира живой кровью уходящей культуры.
Но реставрация башен, подточенных под корень --- дело сомнительное, неблагодарное, да и нетворческое. Болото все равно сильнее, а яркие краски плавающей в нем дряни выглядят достаточно соблазнительно. Бывает, что в них узнается обломок бывшей вещицы из тех, на которых в свое время выросло целое поколение, целая школа того или иного искусства. Кажется, если дашь уплыть такому призраку, сердце вслед за ним из груди выпрыгнет.
Оставаться по пояс в жирной блестящей ряби равносильно самоубийству. Есть гиганты, которым все равно: они не боятся. А иные уже уплыли, самовольными трупами по мертвой воде. Надо уходить, и строить на чистом месте.
Кое-что еще можно сделать, например --- разрушить башни, которые еще держатся, чтобы захватить с собой нетронутую вирусом сердцевину. Или воспользоваться для той же цели техникой клонирования.
В любом случае, Интернет --- и оружие, и поле для войны с Неразличением постмодерна. Несмотря на срочно штампуемые в последнее время законы: о Непропаганде наркотиков и несанкционированных видов Половых Извращений, о Нераспространении непроданной информации, о Запрете На Несоблюдение Данного Закона, --- не все пути еще перекрыты, и есть много хороших позиций. Спасает, как всегда, то, что враги безграмотны.
% Важно, что на деле культурная иерархия усилиями Сетевых % "литературтрегеров" не просто размывается, как хотелось бы адептам % самых радикальных постмодернистских теорий, - она двоится, троится, % на песке возводятся многочисленные пирамиды, равно хилые и % кособокие. Проводятся свои литературные конкурсы, возникают свои % авторитеты. Это было бы похоже на зарождение мультикультуралистской % парадигмы, если бы за множественностью создаваемых иерархий стояла % реальность каких-либо культурных групп. Но нет. Коренная причина % такого положения вещей состоит в том, что до сих пор русской % литературой в Интернете ведают люди достаточно далекие от % литературы. Это естественно, поскольку первыми доступ к новым % технологиям получают те, кто профессионально связан с ними, а это с % писателями случается нечасто. Пионеры литературы в Интернете - % вероятно, из лучших побуждений - успели за два-три года полученной % форы выстроить своего рода параллельный мир, обитатели которого по % большей части не подозревают (или делают вид, что не подозревают) о % существовании литературы за его пределами.Мир --- это много; скорее, город. В центре, на площади, статуи руководящих товарищей, из хорошего папье-маше и прилично раскрашенные. А на окраине --- фабрика, занятая производством отходов производства. И мелкие предприятия для обслуживания работников, как положено.
Но ведь всякая фабрика в конечном счете производит отходы. Работать так, напрямую, даже честнее.
К вопросу о социальных и культурных функциях, принимаемых на себя дилетантской литературой: ведь сейчас, когда в искусствах идет всеобщее почвотрясение, из зданий "бывшего" дольше всех держится социальная мифология от литературы --- ажурная, хоть и ржавая, арматура. Героическая фигура Пророка, Мессии, Погиб-Поэта стоит, не падает, оттого что она пустая внутри.
Внутри гуманитарно-образованных кругов --- и незаметно для широкой публики --- постмодернизм успел заменить эти ветхие стандарты плакатами, изображающими Дон-Кихота (или голую развратную музу какого-нибудь пола и ориентации) с дыркой вместо лица. Желающие могут подойти и сфотографироваться.
И в желающих нет недостатка. Интеллигенты подходят, помахивая своей, с позволения сказать, постмодернистской иронией (а чтоб о душе подумать, так нет...). Широкая же публика спешит совершенно серьезно.
Фотографируют всех, кто растолкает очередь локтями, доберется до отверстия и просунет голову. Снимки в основном выходят жалкие --- но это и славно. Если они окажутся хорошими, их так или иначе поднимут на постмодернистский штандарт.
Культовые фигуры среди либеральных невежд и бюргеров раньше были довольно качественными: запросы обывателя контролировала образованная среда. И это получалось плохо или обидно (примерно как Пушкин на службе у борцов за моральную чистоту), а в наше время было бы опасно для выживания разумных рас.
Рабская шушера из технической интеллигенции по-прежнему жаждет поклоняться, хоть и смущается выбрать за объект ту или иную звезду эстрады. Процессы внутри русской сети, о которых с огорчением толкует Кузьмин, позволяют, однако, передать культурные функции идола бездарным и глухим на слово, но достаточно агрессивным, невеждам. Это хорошо, потому что вполне адекватно.
%[...] А когда представительство в Сети %серьезной литературы станет сколько-нибудь значимым, появится %возможность отладить здесь нормальные экспертные механизмы, как это %уже происходит в мире "бумажного" книгоиздания: сегодня у читателя, %останавливающегося в недоумении перед полками магазина %некоммерческой литературы, на которых его ждут сотни небольших %стихотворных сборников, есть по крайней мере один способ быстро %сориентироваться - обратить внимание на издательскую марку. Потому %что имена авторов, опубликованных "Пушкинским фондом", "Митиным %журналом", Еленой Пахомовой, Библиотекой журнала "Соло", могут быть %читателю неизвестны, но известно, что они прошли определенный %экспертный отбор в соответствии с определенными профессиональными %критериями.В самом деле, это удобно: мусорщику, очищая тот или иной мир от мэйнстрима, достаточно справиться об издателе. Ошибка почти исключена.
%Что же касается возможностей компьютера в собственно %литературном творчестве, то и здесь пока дело тормозится %элементарным отсутствием у серьезных авторов самого компьютера либо %навыков работы с ним. Сергей Бирюков, вернувшийся недавно с %Фестиваля визуальной поэзии в Торонто, рассказывал, что большинство %участников просто не расставалось с ноутбуками: для этого вида %искусства, пограничного между литературой и живописью/графикой, %мультимедийные возможности компьютера - манна небесная. Российские %мастера-визуалисты немногочисленны, и, насколько я знаю, ни у одного %из них компьютера просто нет. Между тем работы некоторых из них как %будто прямо предназначены для компьютерного существования: скажем, %"листовертни" Дмитрия Авалиани, читающиеся по-разному в зависимости %от расположения в пространстве. Возможность движения, обретаемая в %электронном представлении визуальной поэзией, превращает ее, строго %говоря, в новый вид искусства, обладающий иным по отношению к %литературе типом временной протяженности и в чем-то близкий %кинематографу, может быть, мультипликации, героями которых %становятся слова, буквы и т.п. Кроме того, участие в синтетическом %тексте не только вербального и визуального элементов, но и элемента %звукового возможно, помимо перформативных искусств, только %посредством компьютера.Умный дачник не пользуется ни трактором, ни бульдозером. Хороший инструмент сам диктует область своего применения; так, компьютер не спасет от серьезно настроенных визуалистов. В лучшем случае --- приблизит печальную участь.
Новый вид искусства, ближе всего стоящий к описанию Кузьмина --- это компьютерные игры. Истинно новый, как ничто другое активизирующий сотворчество "потребителя". К сожалению, соответствующая сфера уже слишком коммерциализирована, и естественные надежды на быстрый прогресс, в первую очередь на идейно-эстетическом уровне, здесь во многом подорваны удушающей монополией Микрософта.
%Вообще, как известно, "говорят: смотри, это новое, - но было уже %в веках" (Екклезиаст). В свое время на слушаниях в Эссе-клубе %каждому специфически сетевому литературному приему был приискан %давно реализованный на бумаге аналог; вот и Максим Борисов %присоединяется к такому мнению. Взгляд этот несколько %поверхностный. Взять, например, гипертекст - простейшую %разновидность, сноски и комментарии, широко используемые литературой %уже не первый век (вспомним хотя бы "Бледный огонь" Набокова), далее %систему перекрестных ссылок, формирующую разные последовательности %чтения, - resp. "Игра в классики" Хулио Кортасара, "Сказка на ваш %вкус" Раймона Кено и т.п. Однако электронный способ существования %текста дает во всех этих случаях качественно новый эффект. Только в %компьютерном виде гипертекстовая структура может реализовать себя %как единственно возможная, принудительная: невозможно %проконтролировать, в какой последовательности обращается читатель к %разным частям "Бледного огня", читает ли он комментарий как %комментарий, то есть постатейно, или подряд, как обычный текст; в %электронной версии возможность линейного чтения можно %исключить. Сходным образом при чтении романа Кортасара с листа %основная последовательность чтения выступает как приоритетная по %отношению к альтернативной, скачкообразной; не обсуждая вопрос о %том, входило ли такое неравноправие версий в задание, отметим, что в %электронном представлении от него легко избавиться, тогда как на %бумаге это практически невозможно.Да и на компьютере порядок чтения проконтролировать невозможно. Читатель, буде таковой найдется, вместо того, чтобы пойти по ссылке, всегда может вызвать следующую страничку. А иначе в чем же заключался бы смысл гипертекста?
Гипертекст работает лучше всего для смешанной организации внутренней и внешней по отношению к данному объекту информации, одновременно. Иначе это снова --- из пушки по воробьям.
%Вероятно, Интернет мог бы вдохнуть жизнь и в другие формы, жанры %и приемы, не слишком прижившиеся или отжившие свое в "бумажной" %литературе. Так, легко себе представить, что всякого рода %эхоконференции (они же newsgroups или mailing lists) могут дать %новый импульс такой форме, как эпистолярный роман, - ведь впервые %появляется возможность представить этот роман читающей публике в %действительно эпистолярной форме.Блестящая интуиция, одно слово. И возрожден, и обновлен эпистолярный жанр усилиями эхоконференций --- родная матушка не узнает. Но только не на русском языке.
В США, где электронная кляуза может стоить многим рабочего места, сочинители эпистол собираются в группы и совместными стараниями создают истинно художественные произведения. Поэзия в широком смысле становится действенной, вынимая, наконец, свой клинок из роковых ножон (психоаналитическая метафора здесь заимствована у Лермонтова). Послания эти зачастую публикуются на сети и неизменно вызывают обратную связь. Жанр изобилует разнообразными приемами: подложные письма, литературные отступления биографического характера (так, мне довелось прочесть несколько замечательных статей, выполненных в форме газетных заметок, с подробным описанием гомосексуально-зоофилического совокупления двух мужских персонажей, окончившегося тяжелыми ожогами и мучительной смертью их младшего партнера --- маленького пушного зверька), поэмы и проч.
Но в русской сети для этого нет условий, отсутствует мотивация. Наверное, это дело будущего: всеобщая американизация обещает все необходимое предоставить.
%[...] пока компьютер и %связанные с ним новые технологии не стали обыденной и повседневной %реальностью для писателя, взаимодействие литературы и компьютера %будет протекать в маргинальных сферах литературной и культурной %жизни.Когда станут, тоже ничего страшного не случится. У профессионалов не бывает свободного воображения: они никогда не освоят методов электронной экспансии, и много места поэтому не займут. А для того, чтобы перекрыть в директивном порядке пути конкурирующим маргиналам, у них никогда не достанет ни средств, ни влияния. Разве что все официальные авторы запишутся в гомосексуальные чернокожие борцы за права феминистски настроенных инвалидов, и получат под это дело американские гранты. Но ведь это, в общем, совсем неплохо.
(*) Примечание М. В:
Юля пишет
-
Огради меня, моя кухня,
от культуры, которая тухнет?..
Сей шедевр, достойный пера Линор Горалик, принадлежит Алексею Андрееву. Вот он целиком:
o Copyright 1994 Alexey Andreyev o ------------------------------ о _Молитва о о От политики, экономики, о от экранов, где пляшут гомики - о огради меня, мое кресло, о от обложек, где голые чресла. о о От корыстности и от скорости, о от покорности русской топорности - о охрани меня, моя кухня, о от культуры, которая тухнет. о о И уверь меня, кружка чайная, о в том, что серость кругом - случайная, о что прекрасное может все-же о не тускнеть, в луже лажи лежа.Архивы обсуждения феномена покорности русской топорности тухлой культуре.
Архивы гостевой книги Тенет, собранные за время написания этой статьи.
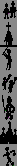 HTML: Миша Вербицкий
HTML: Миша Вербицкий